Сканирование: Янко Слава
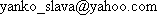 | | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656
| | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656
Разработка серии В.Руднева
ДЖОН УИЛЬЯМ ДАНН
ЭКСПЕРИМЕНТ СО
ВРЕМЕНЕМ
АГРАФ
МОСКВА 2000
Сканирование: Янко Слава
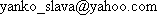 | | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656
| | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656
Разработка серии В.Руднева
ДЖОН УИЛЬЯМ ДАНН
ЭКСПЕРИМЕНТ СО
ВРЕМЕНЕМ
АГРАФ
МОСКВА 2000
ББК 87.3 (Англ.) Д187
Серия «XX век +» Междисциплинарные исследования
Разработка серии В.Руднева
Оформление серии художника Ф. Домогацкого
Перевод с английского Т. Целевой
Информационный спонсор – радиостанция «Эхо Москвы»
Данн Д.У.
Д 187 Эксперимент со временем. — М.: «Аграф», 2000. — 224 с.
Английский философ Джон Уильям Данн вошел в историю философии XX века как создатель многомерной модели времени. Проанализировав известный феномен сбывающихся ("пророческих") сновидений, Дани пришел к выводу, что на самом деле человек во сне перемещается в свое будущее по четвертому пространственноподобному временному измерению. В дальнейшем, проведя эксперименты со временем на себе и на других людях, Дани убедился в своей правоте и написал об этом книгу, которая на протяжении 1920-х годов была интеллектуальным бестселлером в Европе. Парадоксальное сочетание фундаментальных идей психоанализа (толкование сновидений) и теоретической физики (общая теория относительности) - своеобразный междисциплинаризм идей Данна - позволило ему стать основателем темпоральной философии XX века. Данн интересен также тем, что на основе его идей построены все рассказы Х.Л. Борхеса, в свое время написавшего о Данне отдельное эссе.
Книга Данна предназначена философам и филологам, психологам и культурологам, писателям и поэтам, а также любителям научно-фантастической литературы.
ББК 87.3 (Англ.)
ISBN 5-7784-0130-2
© Издательство «Аграф», 2000 © Ивлева ТВ., перевод, 2000
Джон Уильям
Данн в культуре XX века. 3
Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна.
X. Л. Борхес. «Анализ творчества Герберта Кузина»
Дж. У.Данн (1875—1949) занимает более чем маргинальное положение в истории философии XX века. Лишь в книгах обзорного характера по философии времени, таких, например, как [Clough I950, Уитроу 1964] его имя и труды, им написанные, упоминаются с не меньшим почтением, чем имена А. Эддингтона, Дж. МакТаггарта, Ф. Брэдли и Ч. Броуда. Данн не был профессиональным философом, при том что его построения порой избыточно строги — он имел техническое образование и был летчиком (авиатором — на языке того времени). Так или иначе, но на современную ему публику книги Данна действовали впечатляюще. Книга «Эксперимент со временем» была переиздана на протяжении 1920-х годов шесть раз.
Истоки философии Данна — это, во-первых, довольно приблизительно понятая общая теория относительности и, во-вторых, также довольно поверхностно воспринятый психоанализ. Из первой он почерпнул идею о том, что время можно рассматривать как пространственноподобное измерение. Из второго — интерес к сновидениям. В результате получился интеллектуальный бестселлер. Человек видит сны, которые сбываются. Почему это происходит? Потому что время многомерно. В особых «измененных» (этот термин был придуман уже после смерти Данна, в 1960-е годы Чарлзом Тартом) состояниях сознания одно из временных измерений человека становится пространственноподобным — по нему-то он и может передви-
[5]
гаться в прошлое и будущее (сюжет, согласитесь, для 1920-х годов — со свойственной им навязчивой идеей построения машины времени — чрезвычайно соблазнительный). Обоснованию и объяснению этой идеи и посвящен публикуемый ниже фрагмент.
Данн не был философом-мыслителем, таким, например, как Хайдеггер или Витгенштейн. Но он не был также философом-писателем, как Ницше или Бергсон. Он был философом навязчивой идеи. Его можно не рассматривать всерьез как мыслителя, но его книги (помимо «Эксперимента со временем», «Серийного мироздания» (см. перевод фрагментов этого произведения в публикациях [Данн 1992, 1995]) и «Ничто не умирает») производили огромное впечатление на публику. А то, что среди этой публики был Хорхе Луис Борхес, написавший о Данне эссе «Время и Дж. У. Данн» [Борхес 1994], позволяет отнестись к этому серьезно. Разговор о Борхесе, на которого Данн оказал чрезвычайно глубокое влияние, пойдет ниже. Сперва следует сказать, что Данн почувствовал нечто фундаментально верное в темпорально-ментальной структуре эпохи, то, что мы назвали «серийным мышлением» [Руднев 1992].
В культуре начала XX века существовала точка зрения на время, связанная с традицией английского абсолютного идеализма [Bradley 1969; Alexander 1903; McTaggart 19б5]. Эти философы исходили из того, что ноуменально времени вообще не существует, а иллюзия времени возникает в статичном мире из-за непрерывного изменения внимания наблюдателя.
Наиболее интересной в плане семиотического рассмотрения проблемы времени является концепция Данна. Есть два наблюдателя, говорит Данн. Наблюда
[6]
тель 2 следит за наблюдателем 1, находящимся в обычном четырехмерном пространственно-временном континууме. Но сам этот наблюдатель 2 тоже движется во времени, причем его время не совпадает со временем наблюдателя 1. То есть у наблюдателя 2 прибавляется еще одно временное измерение, время 2. При этом время 1, за которым он наблюдает, становится пространственноподобным, то есть по нему можно передвигаться, как по пространству — в прошлое, в будущее и обратно, подобно тому, как в семиотическом времени текста (подробно см. [Руднев 1986]) можно заглянуть в конец романа, а потом перечитать его еще раз. Далее Данн постулирует наблюдателя 3, который следит за наблюдателем 2. Континуум этого последнего наблюдателя будет уже шестимерным, при этом необратимым будет лишь его специфическое время 3; время 2 наблюдателя 2 будет для него пространственноподобным. Нарастание иерархии наблюдателей и, соответственно, временных изменений может продолжаться до бесконечности, пределом которой является Абсолютный Наблюдатель, движущийся в Абсолютном Времени, то есть Бог.
Интересно, что, согласно Данну, разнопорядковые наблюдатели могут находиться внутри одного сознания, проявляясь в особых состояниях сознания, например, во сне. Так, во сне, наблюдая за самим собой, мы можем оказаться в собственном будущем, тогда-то мы и видим пророческие сновидения. Теория Данна является синтетической по отношению к линейно-эсхатологической и циклической моделям (подробно см. [Руднев ]986]). Серийный универсум Данна — нечто вроде системы зеркал, отражающихся друг в друге. Вселенная, по Данну, иерархия, каждый уровень которой является текстом по отношению к уровню более
[7]
высокого порядка и реальностью по отношению к уровню более низкого порядка.
Концепция Данна оказала существенное влияние на культуру XX века, в частности на творчество X. Л. Борхеса, практически каждая новелла которого, посвященная проблеме времени и соотношению текста и реальности, закономерно дешифруется серийной концепцией Данна, которую Борхес хорошо знал. Так, в новелле «Другой» (к сожалению, по непонятным причинам эта, одна из лучших, на наш взгляд, новелл Борхеса была опубликована лишь в его первом русском сборнике новелл [Борхес 1984]) старый Борхес встречает себя самого молодым. Причем для старика Борхеса это событие, по реконструкции Борхеса-автора, происходит в реальности, а для молодого — во сне. То есть молодой Борхес во сне, будучи наблюдателем 2 по отношению к самому себе, переместился по пространственно-подобному времени 1 в свое будущее, где встретил самого себя стариком, который, будучи наблюдателем 1, спокойно прожил свой век во времени 1. Однако молодой Борхес забывает свой сон, поэтому, когда он становится стариком, встреча с самим собой, путешествующим по его времени 1, представляется для него полной неожиданностью.
Одним из основополагающих понятий концепции Данна является серия. Пояснить, что такое серия, можно на примере, взятом из его второй книги «Серийный универсум» [Dunne 1930]. Там рассказывается притча о том, что некий художник сбежал из сумасшедшего дома, чтобы нарисовать картину всего мироздания. Он поставил свой мольберт в открытом поле и принялся задело. Он нарисовал все, что видел вокруг себя, но что-то его не удовлетворяло, чего-то не
[8]
хватало на этой картине. Тогда он понял, чего не хватало — его самого, пишущего картину. Тогда он отодвинул мольберт подальше, поставил сельского парнишку, чтобы тот ему позировал, и нарисовал себя, пишущего картину мироздания. Но его опять что-то не удовлетворяло. Не хватало его самого, пишущего картину мироздания, на которой изображен он сам, пишущий картину мироздания. Пришлось опять отодвигать мольберт. Количество членов серии бесконечно, оно ограничено лишь Абсолютным Наблюдателем, движущемся в Абсолютном Времени. Для нас интереснее другое, а именно то, что Данн предсказывает здесь и метафизически обосновывает одну из основных гиперриторических фигур в искусстве XX века, которую принято называть «текст в тексте». Онтологический смысл этого построения, которое характерно для таких ключевых произведений XX века, как «Мастер и Маргарита», «Волхв» Дж. Фаулза, «Бледный огонь» Набокова, «Бесконечный тупик» Д. Галковского, сформулировал сверхпроницательный Борхес в новелле «Скрытая магия в «Дон Кихоте»», по-видимому, не случайно вошедшей в тот же сборник, что и эссе о Данне («Новые расследования», 1952). Борхес задается вопросом, почему нас смущает, что во втором томе «Дон Кихота» персонажи рассказывают о событиях первого тома как о заведомом вымысле, то есть, говоря языком Данна, встают в позицию того сумасшедшего художника, который вынужден был все время отодвигать мольберт.
Джосайя Ройс в первом томе своего труда «The World and the Individual» (1899) сформулировал такую мысль: «Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли и какой-то картограф
[9]
начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно — нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, которая не отражена на карте, здесь повторено все. В этом случае подобная карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себя карту карты карты, и так до бесконечности».
Почему нас смущает, что карта включена в карту <...>? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет — зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены [Борхес 1994: 370].
Вообще, вероятно, любое значительное произведение модернистского искусства XX века носит на себе отпечаток серийности. Так, пожалуй, трудно разобраться в новелле «В чаще» Акутагавы, в серийных романах Роб-Грие (в данном случае это термин самого Роб-Грие), «Школе для дураков» Соколова, «Хазарском словаре» и других произведениях Милорада Павича, не прибегая к серийной концепции Данна.
В сущности, временная модель Данна затрагивает одну из основных проблем логики и философии XX века. Предположим, имеется язык L, описывающий реальность. Для того чтобы описать сам этот язык L, например создать его грамматику, необходимо ввести метаязык. Если же мы захотим описать сам этот метаязык, нам понадобится метаязык еще более высокого порядка. Бесконечный регресс метаязыков (серия) с логической точки зрения неприемлем потому, что,
[10]
описывая язык первого порядка при помощи метаязыка, мы можем пользоваться математической символикой — и тогда метаязык будет отличаться от языка описания, что весьма желательно, ибо в противном случае они просто сольются, а описывая математический метаязык, при помощи метаязыка третьего порядка, мы будем вынуждены пользоваться той же математической символикой, так как более точного и экономного языка мы просто не знаем. Эта проблема под именем «теории типов» мучила одного из основателей математической логики XX века Б. Рассела, и именно с этой проблемой жестко расправился в «Логико-философском трактате» Витгенштейн, по мнению которого на место описаний второго и третьего порядков должны встать указание и молчание. На сегодняшний день можно констатировать, что проблема однозначным образом до сих пор не решена.
Чрезвычайно отчетливо серийное мышление как онтологическая проблема, специфическая для XX века, отразилось в кинематографе, который уже по своей сути — будучи детищем XX века — структурировал реальность в духе XX века. Фильм в фильме (как разновидность фундаментального построения «текст в тексте», которое, в свою очередь, является разновидностью данновского серийного понимания мира) стал ключевой композиционной структурой в киноромане второй половины нашего столетия [Иванов 1981], когда сюжетом фильма становится съемка самого этого фильма (наиболее известные ленты, осуществляющие это построение, — «8 1/2» Феллини, «Все на продажу» Вайды, «Страсть» Годара).
Помимо кинематографа серийное мышление чрезвычайно успешно (если воспользоваться терминологией Дж. Остина) использовалось поздними сюрреа-
[11]
листами в живописи, в особенности Дали и Магритом, излюбленный сюжет которых — это все то же построение «картина в картине». (О связи серийного мышления Данна с серийной музыкой венских додекофонистов мы писали подробно в [Руднев 1992].)
В сущности, и одна из наиболее специфических гуманитарных парадигм XX века — психоанализ Фрейда — носит серийный характер. Характерно, что к идее серийности психического аппарата Фрейд пришел постепенно к 1920-м годам, времени формирования серийной музыки Шенберга и серийной концепции времени Данна. Мы имеем в виду так называемые три топики Фрейда. Вначале он разграничил сознательное и бессознательное, затем внутри бессознательного — инстанции Я, Оно и СверхЯ и наконец в работе «По ту сторону принципа удовольствия» постулировал внутри каждой из этих инстанций два фундаментальных влечения — инстинкт жизни и инстинкт смерти. Так что структура метатеории классического психоанализа также является серийной.
Таким образом, философия серийного времени Данна вскрывала принципиальную непростоту реальности, ее, так сказать, каверзность, обусловленность метаязыком и наблюдателем. В XIX веке чаще всего было легко определить, является ли для данного человека реальность идеалистической, платоновской или, материалистической, естественнонаучной. В XX веке это уже невозможно. Философы-аналитики и естественнонаучные мыслители полагали, что материализм и идеализм суть два симметричных [Рейхенбах 1962], или дополнительных [Бор 1961], языка описания одного и того же объекта (экстремистски настроенный Витгенштейн вообще утверждал в «Трактате»,
[12]
что материализм (реализм) и идеализм это одно и то же, если они строго продуманы).
Вообще наука и философия 1920—30-х годов настолько непредсказуема, что идеи и концепции, казавшиеся бредом современникам, спустя 40—50 лет порой оказываются гениальными прозрениями. Пример тому — наследие Н. Я. Марра, русского лингвиста, фантастические построения которого, в частности, сведение всех языков к четырем первоэлементам sal, ber, jon, rоль, представлявшиеся современникам просто бредом, неожиданно оказались удивительно созвучными идеям современной генетики (см. об этом [Гамкрелидзе 1996]).
В случае с серийным временем Данна можно говорить не только о безусловном сходстве с такими, например, художественными образами времени, как «Сад расходящихся тропок» Борхеса, но и с такими новейшими естественнонаучными представлениями о времени, как понятие «точки бифуркации» в концепции Ильи Пригожина, то есть точки, в которой событие может пойти по одному из альтернативных путей [Пригожин 1994] (семиотическую интерпретацию идей Пригожина см., например, в книге [Лотман 1992]).
Безусловно, столь популярные ныне идеи гипертекста, в частности компьютерного романа, используют модель многомерного времени, когда из любой точки повествования путем нажатия клавиши можно вернуться в прошлое или перенестись в будущее и разыграть сюжет по-новому.
Таким образом, маргинальность фигуры Данна, громоздкая наукоподобность его построений не должны, на наш взгляд, зачеркивать пусть и подспудную, но значительную его роль в формировании научной, философской и художественной парадигм культуры XX века.
[13]
Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961.
Борхес X. Л. Юг. М., 1984 (Библиотека журнала «Иностранная литература»).
Борхес X. Л. Оправдание вечности. М., 1994.
Гамкрелидзе Т. В. Р. О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Материалы международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». М.,1996.
Данн Дж. У. Серийное мироздание (фрагмент)//Даугава, 3, 1992.
Данн Дж. У. Серийное мироздание (фрагмент)//Художественный журнал, 8,1995.
Иванов В. В. Фильм в фильме // Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 637, 1981.
Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
Пригожин И. Время. Хаос. Квант. М., 1994.
Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.
Руднев В. Текст и реальность: Направление времени в культуре //WienerslawistischerAlmanach, 17, 1986.
Руднев В. Серийное мышление//Даугава, 3, 1992.
Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М., 2000.
Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
Alexander A. Space, time and deity. L, 1903.
Bradley F. Appearance and reality. Ox., 1969.
Dunne J. W. The Serial universe. L., 1930.
Clough M. Time.L., 1950.
McTaggart J. Selected writings. L, 1968.
Вадим Руднев
[14]
Поскольку читатель, должно быть, уже заглянул вперед, нам, пожалуй, следовало бы сразу предупредить его, что эта книга не об «оккультизме» и не о так называемом «психоанализе».
Это всего лишь отчет о чрезвычайно осторожной разведке в довольно необычном направлении — отчет в традиционной форме рассказа о ходе исследования, снабженный необходимыми, на наш взгляд, теоретическими выкладками. Однако эксцентричность, кажущаяся причудливость первых глав нашего повествования нуждается в объяснении, дабы не сбить читателя с толку. Он без труда догадается, что на этом этапе задача заключалась в «выделении» (да позволено нам будет прибегнуть к химическому термину) одного-единственного, главного факта из массы не относящихся к делу данных, и любое описание процедуры «выделения» должно давать определенное представление о всей совокупности использованного материала, который зачастую — а в нашем случае сплошь да рядом — чистейший вздор.
Обнаружившийся факт был именно тем, что мы, исходя из теоретических посылок, и ожидали найти. Он точно вписывается в отведенную ему крохотную нишу в системе знаний и, более того, обладает, по-видимому, свойством, против которого долго не устоять — свойством быть ясно и непосредственно наблюдаемым каждым внимательным человеком. Читатель, надеемся, приложит немного усилий, чтобы убедиться в этом.
[15]
* * *
На этих страницах, кажется, нет ничего, что затруднило бы понимание — при условии, что читатель пропустит ряд абзацев, набранных мелким шрифтом и предназначенных в основном для специалистов. Также, возможно, придется раза два прочесть Главу V. Однако в тексте то и дело встречаются распространенные полуспециальные термины, и не исключено, что многие люди привыкли вкладывать в них несколько иной смысл, чем тот, которым наделяет их автор. Подобного рода расхождение, несомненно, порождало бы взаимное недоумение на протяжении почти всей книги. Поэтому желательно заранее в самой общей форме прийти к соглашению касательно не собственно строгого употребления этих терминов, а придаваемого им в данной книге смысла. Поступив таким образом, мы, по крайней мере, избавим читателя от наихудшей напасти — необходимости постоянно отвлекаться от чтения, заглядывая то в словарь, то в сноски в конце страницы.
Соглашение будет полностью односторонним, но тем легче достичь его.
[16]
Итак, представьте себе, что вы принимаете у себя гостя из страны, все жители которой слепы от рождения. Вы пытаетесь объяснить ему, что значит «видеть». Предположим далее, что у вас обоих, к счастью, много общего: вы досконально знакомы со значениями всех употребляемых в физике специальных терминов.
Нащупав тем самым почву для взаимопонимания, вы стараетесь донести до него свою мысль. Вы начинаете описывать, как на ретине глаза, этакой миниатюрной кинокамере, фокусируются излучаемые отдаленным объектом электромагнитные волны и в результате на затронутом участке происходят физические изменения; как эти измерения связаны с потоками «нервной энергии» (возможно, электрической природы) в нервных сплетениях, ведущих к мозговым центрам; и как изменения, происходящие на молекулярном и атомном уровнях в этих центрах, позволяют «зрячему» человеку зарегистрировать контуры удаленного объекта.
Ваш гость отлично поймет все сказанное выше.
Однако здесь необходимо сделать одну оговорку. Речь идет о знании, о котором у слепого человека нет предварительно сформированного понятия. Это знание он—в отличие от нас с вами — не может приобрести обычным путем, посредством личного опыта. Взамен вы предлагаете ему описание, данное на языке физики. Цель замены — передать ему недостающее знание.
Но «видение», разумеется, включает в себя гораздо больше, чем просто регистрацию контуров. Например, цвет.
[17]
Вы продолжаете объяснение примерно в следующих словах. То, что мы называем «красным» цветом, испускает электромагнитные волны определенной длины; подобные же волны, но несколько иной длины испускает «синий» цвет. Органы зрения устроены таким образом, что могут распознавать волны, улавливая различия в их длине, и эти различия в конечном итоге регистрируются за счет соответствующих различий в физических изменениях, протекающих в мозговых центрах.
Это описание, вероятно, также полностью удовлетворит вашего слепого гостя. Теперь он великолепно осознал, как физический мозг регистрирует различия в длине волн. И если вы удовлетворитесь этим объяснением, он покинет вас с благодарностью, убежденный, что язык физики и на этот раз не подвел и что объяснение, данное вами в физических терминах, вооружило его столь же полным знанием, скажем, о пресловутом «красном» цвете, каким обладают и другие люди.
Однако его предположение было бы нелепым, ибо он, конечно же, так ничего и не узнал о существовании одного очень примечательного (и, возможно, самого загадочного и, несомненно, самого навязчивого) свойства «красного» цвета — его красноте.
Да-да, именно красноте. Мы не станет гадать, является ли краснота вещью, качеством, иллюзией или чем-либо еще. Но мы не можем не признать двух фактов: во-первых, вы и все зрячие люди ясно осознают это свойство «красного» цвета; во-вторых, у вашего посетителя до сих пор и мысли нет о том, что вам или другим людям дано в опыте нечто подобное или что нечто подобное вообще может существовать и познаваться опытным путем. И если теперь вы вознамери-
[18]
тесь довести до конца добровольно возложенную на себя миссию и поднять уровень его знания о «видении» до своего уровня, вам предстоит сделать еще один шаг.
Тогда вы мысленным взором окидываете перечень физических терминов и — достаточно беглого просмотра, чтобы убедиться: любой из имеющихся терминов совершенно не пригоден для описания «красноты» вашему слепому гостю.
Вы можете рассказать ему частицах (глобулах — центрах инерции) и описать рожденный вашей фантазией замысловатый танец, в котором они вибрируют, кружатся, вертятся, сталкиваются и отскакивают друг от друга. Однако ввести понятие «красноты» с помощью всего этого вам не удастся. Вы можете толковать о волнах — больших и малых, длинных и коротких; но представления о «красноте» так и не возникнет. Вы можете обратиться к физике прошлого и пуститься в рассуждения о магнитной, электрической, гравитационной силах (притяжения и отталкивания) или ринуться вперед, в современную физику, и завести речь о неевклидовом пространстве и координатах Гаусса. И можно продолжать ораторствовать в том же духе вплоть до полного изнеможения, а слепой господин будет только кивать и понимающе улыбаться. Ясно одно: после всего сказанного вами он не больше, чем прежде, подозревает о том, что же именно вы, по выражению Уорда, «непосредственно испытываете, глядя на полевой мак».
В данном случае описание в физических терминах не способно передать ту информацию, которая черпается из опыта.
Итак, может быть, краснота и не вещь, но она, определенно, факт. Посмотрите вокруг. Это один из са-
[19]
мых очевидных фактов, существующих в природе. Он бросает вам вызов повсюду, неотступно требуя истолкования. Но язык. физики в основе своей не приспособлен для его объяснения.
Понятно, что, окрестив красноту «иллюзией», физик ничего не добьется. Ибо как стала бы физика объяснять привнесение элемента красноты в эту иллюзию? Изображаемая физиком вселенная бесцветна, как бесцветны и все происходящие в ней мозговые явления, включая «иллюзии». Но именно вторжение цвета — неважно, назовете вы его «иллюзией» или как-либо еще — в эту картину нуждается в объяснении.
Как только вы четко осознаете, что краснота есть нечто, выходящее за пределы простой совокупности позиций, движений, напряжений или за рамки математической формулы, вам не составит труда понять, что цвет — не единственный факт такого рода. Будь ваш гипотетический посетитель не слепым, а, скажем, глухим, то сколько бы книг по физике вы ни предлагали ему прочесть, вам не удастся дать ему ни малейшего намека на природу услышанного звука. Слышимый звук — факт. (Положите книгу и прислушайтесь.) Но в мире, описываемом физикой, мы не встретим такого факта. Физика может показать нам лишь изменения в позиционном расположении мозговых частиц или изменение давления на них. Но ни одна таблица величин и направлений этих изменений не укажет вам на существование где-либо во вселенной явления, которое вы непосредственно переживаете в момент, когда звонит колокол. Действительно, подобно тому, как физика не может рассматривать вопрос о наличии в «красном» элемента «красноты», она изначально не способна объяснить и проникновение колокольного звона во
[20]
вселенную, графически изображаемую в виде совокупности конфигураций, натяжений, давлений.
Но раз на графике нет ни цвета, ни звука, то какая польза от поиска в нем таких явлений, как вкус и запах? Самое большее, на что мы можем рассчитывать, — это обнаружить движения мозговых частиц, сопутствующие соответствующему переживанию, или когда-нибудь сформулировать уравнения передачи какого-то дотоле неизвестного потока энергии. И вы, и ваш предполагаемый гость можете обладать полным знанием об этих мозговых пертурбациях и досконально изучить энергетические уравнения, еще ждущие своей формулировки. Но если вы на самом деле способны ощущать вкус и запах, а он — нет, то ваше знание о каждом из этих явлений, бесспорно, будет содержать в себе нечто для него неведомое и, уж конечно, совершенно невообразимое.
Итак, называя какое-либо событие «физическим», мы подразумеваем, что оно в принципе может быть описано в физических терминах (в противном случае описание было бы абсолютно бессмысленным). Поэтому справедливо утверждать, что, удалив из любого события, которое затрагивает наши чувствительные нервы, все известные или мыслимые физические компоненты, мы обнаружим некий, безусловно, не-физический осадок.
Эти остатки — самое очевидное во вселенной, причем настолько очевидное, что будоражимые и подстрекаемые хитроумной игрой нашего воображения — то помещающего их на наружную поверхность нервных окончаний, то переносящего их за пределы этих окончаний, в окружающее пространство, — они создают видимость огромного внешнего мира яркого света и буйных красок, острых запахов и звучащих наперебой
[21]
громких звуков. Все вместе они сливаются в изумительнейший вихрь из четко различимых явлений. Именно его и надо рассмотреть после того, как физика скажет свое слово.
ФИЗИКА. — В вышеизложенном нет ничего удивительного. Конечная задача физики — отыскать, выделить и описать такие элементы природы, которым можно было бы приписать существование, независимое от существования какого бы то ни было непосредственного наблюдателя. Следовательно, физика — наука, специально предназначенная для изучения не вселенной вообще, а того, что предположительно остается в ней, если изъять из нее все проявления чисто сенсорного характера. С самого начала она не выказывает никакого интереса к цвету, звуку и тому подобным непосредственно воспринимаемым явлениям, которые зависят от присутствия непосредственного наблюдателя и не существуют в его отсутствие; и ограничивается языком и набором понятий, пригодных только для описания фактов, относящихся к ее собственной четко очерченной области.
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. — Исследуя научным путем положение, в котором мы оказались, мы, разумеется, не можем пренебречь изучением группы явлений столь многочисленных и очевидных, что поначалу кажется, будто они-то и образуют весь известный нам мир. Постепенно зарождается отдельная дисциплина, пытающаяся объяснить эти и добрую долю других отброшенных физикой явлений. Эта наука была названа психологией, а факты, с которыми ей приходится иметь дело и которые существуют только в присутствии непосредственного наблюдателя, — ментальными или, говоря более привычным языком, психическими.
[22]
С научной точки зрения неопровержимо, что мозг как часть физического механизма не может самостоятельно и из ничего сотворить ни одно из тех ярких психических явлений, которые мы называем «цветом», «звуком», «вкусом» и т.д. Но вместе с тем экспериментально установлено, что эти явления не возникают без определенного раздражения соответствующих органов чувств. Более того, их природа обусловливается природой задействованного органа чувств:
цвет и свет сопровождают деятельность глазных нервов; звук связан с наличием уха, а вкус — нёба. Психические явления различны постольку, поскольку различно устройство органов чувств. Цвета, воспринимаемые человеком, варьируются от фиолетового до темно-красного в зависимости от длины волн электромагнитных лучей, падающих на глаз. Если чуть увеличить длину волны, соответствующим психическим опытом будет лишь ощущение тепла. Однако известно, что при очень незначительном изменении задействованных элементов зрительного восприятия ощущение тепла должно сопровождаться восприятием видимого инфракрасного цвета.
Следовательно, физический мозг, — хотя он и не может создать такие чувственно воспринимаемые явления — играет решающую роль в определении их природы и в силу этого служит важным фактором в любом порождающем их процессе.
До сих пор мы, как правило, резюмировали проблему в осторожном утверждении о том, что конкретные психические явления, с одной стороны, и соответствующие им раздражения органов чувств, с дру-
[23]
гой, непременно сопутствуют друг другу или протекают, так сказать, по параллельным линиям во времени. Это утверждение, однако, никоим образом не выдается за «объяснение»: оно есть всего лишь простейший способ сообщить о рассматриваемых фактах, не прибегая к разнообразным метафизическим трактовкам.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ. -Концепция, в соответствии с которой параллелизм нервных* и психических явлений распространяется на весь доступный наблюдению мыслительный опыт, иначе говоря, о том, что нет доступной наблюдателю психической активности без соответствующей активности мозга, называется «психофизическим параллелизмом», причем активность одного рода считается «коррелятом» активности другого рода, и наоборот.
Доказательств этой концепции предостаточно. Напряженное размышление приводит к утомлению мозга; препараты, отравляющие мозг, влияют на рассудочную деятельность; ухудшение состояния мозга отражается на способности запоминать новую информацию. Более того, сотрясение мозга, по-видимому, уничтожает всю память о событиях, непосредственно предшествовавших инциденту. Действительно, именно неудавшаяся попытка пациента вспомнить причины несчастного случая заставляет врача диагностировать сотрясение мозга. Это дает нам в руки почти неопровержимое доказательство того, что средство припоминания — «следы в мозге»; и для того чтобы они наверняка запечатлелись, требуется некоторое время.
Факт существования таких следов в мозге (обособленных дорожек, проторенных потоками нервной энергии) хорошо известен. Установлено также, что чем выше способность человека к ассоциативному
* Т.е. физических (прим. пер.).
[24]
мышлению, тем многочисленнее дорожки в его мозге и замысловатее их разветвления.
НАБЛЮДАТЕЛЬ. — В рамках нашего введения мы, наконец, приблизились к очень кроткому созданию, известному в современной науке под именем «Наблюдатель». Невозможность полностью избавиться от этой фигуры постоянно затрудняет исследование внешней реальности. Как бы мы ни изображали вселенную, изображенное всегда будет нашим творением. Вместе с тем верно, по-видимому, и другое утверждение: как бы мы ни пожелали раскрасить нашу картину, мы вынуждены делать это имеющимися у нас красками. Однако нет никаких причин, по которым какое-либо из указанных ограничений сделало бы недействительным полученный результат — карту, позволяющую нам в безопасности продолжать свой путь. Более того, мы можем ее проверить. И, как свидетельствует опыт, проверка подтверждает надежность карты. В этом — оправдание наших поисков знания.
Следует отметить, что на основании изучения нарисованной картины мы всегда можем сделать некоторые выводы относительно характера и положения оставшегося за ее рамками художника. Действительно, науке часто приходится признавать, что определенные изменения в наблюдаемых явлениях или их особенности объясняются лишь подразумеваемыми изменениями или особенностями самого наблюдателя.
В любой науке изучение наблюдаемых явлений начинается с точной регистрации и классификации различий между ними. Обнаружив впоследствии, что различия порождены природой или действиями наблюдателя, мы можем увидеть в этом объяснение различий и соответствующим образом строить научные
[25]
схемы; но такое добавление к нашему знанию отнюдь не обесценивает про веденного нами ранее анализа наблюдаемых различий.
Все науки имеют дело только с идеальным наблюдателем — до тех пор, пока не докажут обратного. И психология — не исключение. Наблюдателем считается в психологии любой нормальный человек. Тот же самый наблюдатель в конечном счете используется и в физике. Когда психолог говорит о цвете «после-впечатлении», а физик — о спектре звезд, то в обоих случаях подразумевается присутствие одного и того же идеального наблюдателя — причем наблюдателя, различающего цвета.
Для этого наблюдателя принципы психофизического параллелизма звучат, признаться, не особенно обнадеживающе, ибо предполагается, что с прекращением работы мозга прекращаются и психические явления. Более того, применяемый в науке способ отодвижения наблюдателя как можно дальше — с целью как можно полнее приблизить изображаемое к наблюдаемому — низводит его до положения беспомощного созерцателя, у которого не больше возможностей вмешиваться в происходящее, чем у сидящего в кинозале зрителя — изменить развитие сюжета на экране. Мало утешения и от изучения различных метафизических трактовок (ни одна из них не дает объяснения) параллелизма между умом и телом. Идеалисты и реалисты могут горячо спорить о том, в какой степени наблюдатель, так сказать, окрашивает наблюдаемые им явления; но из сделанных ими выводов не следует, что он способен изменить возникшую у него цветовую гамму или саму воспринятую именно в таких цветах вещь — ни тем более продолжать наблюдение тогда, когда не наблюдается никакой мозговой активности.
[26]
АНИМИЗМ. — В данном контексте нельзя не упомянуть о небольшой, но очень мощной группе философов, известных как «анимисты». В XX веке ведущим представителем анимизма, бесспорно, является профессор Уильям Макдугалл, в чьей книге «Тело и ум» самым добросовестным образом изложены аргументы за и против этой теории. Я действительно не могу припомнить никого больше, кто бы сформулировал позицию противников анимизма с такой поразительной силой.
Согласно анимизму, наблюдатель — это все что угодно, только не «пустое место», не «наделенный сознанием автомат». Разумеется, он может находиться за пределами нарисованной вселенной, но он — «душа», обладающая способностью вмешиваться в ход наблюдаемых событий и изменять их, иначе говоря, ум, который не только считывает показания мозга, но и использует последний в качестве своего орудия, — точно так же владелец механического пианино может либо слушать исполняемую на нем музыку, либо сам играть на нем.
Подразумевается, что подобный наблюдатель способен пережить разрушение наблюдаемого им мозга. Что касается вмешательства с его стороны, то с физической точки зрения против этого нет неопровержимых возражений. Макдугалл приводит имеющиеся описания и сам выдвигает различные способы осуществления такого вмешательства без увеличения или уменьшения количества энергии в нервной системе.
Обыватель всегда недоумевает, почему подавляющее большинство ученых столь хладнокровно отвергают идею «души». Верующий человек в особенности не может понять, почему его доводы вызывают не просто отпор, но жалкое презрение. За объяснением, впро-
[27]
чем, далеко ходить не надо. Не стоит приписывать эту идею неумеренному тщеславию людей (хотя такое иногда делается по недомыслию); ибо в конечном счете чернорабочий, который может завернуть в трактир и заказать кружку пива, вызывает несравненно больше восхищения, чем самый огромный ком застывшей слякоти, когда-либо проплывавший в небесах. Идея «души», несомненно, впервые зародилась в уме первобытного человека как результат наблюдения за сновидениями. Будучи невежественным, он заключил, что во сне оставляет свое спящее тело в одной вселенной и отправляется странствовать в другую. Считается, что не будь этого дикаря, мысль о «душе» никогда не пришла бы на ум человечеству; и поэтому аргументы, приводимые в дальнейшем в поддержку идеи со столь сомнительным прошлым, могут и не заслуживать чьего-либо серьезного внимания.
[28]
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. — Итак, психология должна начинать с описания наблюдаемых явлений (буквальный перевод слова «феномены»), не делая предварительных суждений об их причинах. И хотя психология может говорить об этих явлениях как о вещах, не следует приписывать ей утверждение, будто они в основе своей нечто большее, чем следствия, связанные с работой мозга. С самого начала она оставляет этот вопрос открытым.
ПОЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. — Все подобного рода явления психология величает «представлениями» и помещает их в индивидуальном «поле представления» каждого человека. (Мы предпочитаем использовать этот термин вместо более привычного, но недостаточно определенного термина «поле сознания».) В любой данный момент времени поле представления содержит в себе явления, доступные наблюдению. Для пояснения сказанного приведем конкретный пример. Сейчас вы читаете эту книгу, и ваше поле представления содержит в себе зрительные явления в виде печатных букв слова, на котором задержалось ваше внимание. Одновременно в него входит и другое зрительное явление — число, набранное мелким шрифтом в конце страницы. Вы его «не заметили», но оно, несомненно, находилось в пределах области, охватываемой вашим взором; оно воздействовало на ваш мозг через глаз, и его психический «коррелят» предлагался вашему вниманию. Это утверждение справедливо и для множества других зрительных явлений. Чуть поразмыслив, вы также признаете, что поле должно было содержать в себе ряд мышечных ощущений, представ-
[29]
ленных вашему мнению, но оставшихся «незамеченными»: давление на ваше тело, кое-какие звуки и приятное чувство от наполнения легких воздухом при дыхании.
ВНИМАНИЕ. — Опрометчиво полагать, будто эти оставшиеся относительно незамеченными явления не были сознательно наблюдаемы. Глядя на падающий снег, можно сосредоточить внимание на одной летящей снежинке, но это не значит, что остальные вы не воспринимаете. Исчезни они, оставив кружиться в воздухе лишь одну эту снежинку, их исчезновение мгновенно насторожило бы вас и отвлекло бы ваше внимание от прежде интересовавшего вас объекта. Когда вы слушаете оркестр, нет необходимости отрываться от исполняемой музыки с целью убедиться, что сидящий впереди и раздражающий вас господин перестал отбивать такт программкой. И все же наблюдение, по-видимому, концентрируется, как правило, на какой-то определенной части представлений, хотя мы и не имеем психических доказательств того, что это не дело привычки. Сконцентрированное таким образом наблюдение называется «вниманием». Принято говорить, что участок поля, на котором сосредоточено внимание, находится в «фокусе внимания». Известно также, что в самом фокусе и вокруг него внимание может концентрироваться с различной степенью интенсивности.
В физиологии (науке, изучающей мозг как физический орган) полем представления считалась бы та область головного мозга, которая в данный конкретный момент была бы в состоянии активности, связанной с порождением психических явлений, а фокусом внимания — та дорожка мозга, по которой протекал бы максимальный поток нервной энергии. Кто-нибудь,
[30]
вероятно, тотчас предположил бы, что максимальный поток создается объектом, наиболее сильно возбуждающим чувства; но это не всегда так. Внимание проголодавшегося человека при его приближении к обеденному столу приковано не к ослепительно сверкающим серебряным приборам, а к подрумяненной бараньей отбивной — гораздо менее приметному возбудителю чувств. Итак, внимание может либо следовать за чем-то внешним, либо направляться чем-то изнутри организма. Если приписать эту направляющую силу конечному наблюдателю, то мы должны были бы признать за ним статус полностью развившейся animus, наделенной способностью вмешиваться в ход событий. Ибо любому школьнику известно, что концентрация внимания оказывает примечательное воздействие на образование воспоминаний. И все же физиолог стал бы настаивать на том, что нет необходимости думать, будто такая направленность внимания изнутри зарождается где-то за пределами внутреннего состояния мозга, понимаемого чисто механически.
Далее, в каждый конкретный момент поле представления может содержать в себе, помимо рассматриваемых нами чувственных явлений, великое множество других доступных наблюдению явлений, например, «образов, запечатленных в памяти*».
К какому же роду явлений относится «образ, запечатленный в памяти»?
ВПЕЧАТЛЕНИЯ. — Представления можно разделить на два четко разграниченных класса. К первому
* Спешу извиниться перед современными психологами за воскрешение древнего слова «образ». Впрочем, они скоро убедятся, что его употребление здесь совершенно оправдано, хотя в данном контексте оно означает всего лишь повторное использование определенной «диспозиции», иначе говоря, повторное возбуждение определенной дорожки мозга.
[31]
принадлежат явления, которые наблюдатель непосредственно приписывает действию внешних органов чувств или нервных окончаний. Их связь с функционированием этого наружного механизма подтверждается двумя в равной мере значительными фактами: во-первых, движение упомянутых органов или нервных окончаний или внешнее соприкосновение с ними ведет к изменению природы наблюдаемых явлений; во-вторых, при отсутствии такого рода движений или внешних соприкосновений явления остаются неизменными и неустранимыми. Попросту говоря, их «нельзя устранить по желанию». Эти явления называются «впечатлениями».
ОБРАЗЫ. — А теперь мысленно нарисуйте интерьер какой-нибудь запомнившейся вам комнаты. Наблюдаемое вами сейчас, несомненно, есть зрительное представление — картинка, нарисованная в уме. Создать ее не значит сказать самому себе: «Так, посмотрим... в этом углу стоит софа, в том пианино, а цвет ковра такой-то и такой-то». Скорее все, что вспоминается, одновременно предстает перед вашим взором в одном видении. Впрочем, если вы хотите полностью удостовериться в том, что подобные зрительные картинки не создаются вами нарочно из перечня запомнившихся и выражаемых в словесной форме деталей, проведите следующий эксперимент. Внимательно смотрите на пейзаж, изображенный на картине; затем по прошествии получаса попробуйте визуализировать увиденное. Вы обнаружите, что способны вновь наблюдать большую часть той цветовой гаммы, в которую окрашены первоначальные впечатления, а именно, особые оттенки оливкового, коричневого, серого цветов, хотя многие из этих цветов не поддавались художественному анализу, не говоря уже об их словес-
[32]
ном описании. Итак, вы должны видеть в качестве «образа» сочетание цветов, аналогичное сочетанию, увиденному вами раннее в качестве впечатления.
ПРИВКУС ВНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. — Между впечатлением и соответствующим образом существует различие, которое озадачивает любого психолога при попытке описать его. Речь идет о наличии или отсутствии того, что иногда называют «живостью ощущений», а я предпочел бы определить как «привкус внешней реальности». По сравнению с непосредственно созерцаемой комнатой комната, данная в воспоминании, кажется нереальной, хотя и достаточно реальной, чтобы быть узнаваемой в качестве зрительного, а не слухового образа. Или возьмите другой пример. Ударьте по краю бокала и вслушайтесь в затихающий звук. Он ослабевает все больше и больше, пока, наконец, совсем не исчезнет. Но до последнего момента в нем (как указывает Уорд) сохраняется привкус внешней реальности. После его полного исчезновения вы можете припомнить его звучание перед тем, как он навсегда умолк. Эта память о звуке — слуховой образ; он наделен всеми тональными характеристиками первоначального впечатления, но лишен присутствия внешней реальности.
Или сравните истинный образ, то есть «образ, запечатленный в памяти», с явлением, обычно называемым «после-впечатлением». Оно легко наблюдаемо. Если в течение 60 секунд вы будете смотреть на яркий красный абажур, а затем переведете взгляд на потолок, то через пару секунд вы увидите немного размытое зеленое пятно в форме абажура. Оно тусклое, практически не имеет каких-либо резко обозначенных деталей, окрашено в цвет, противоположный (дополнительный цвету первоначального впечатления, и, пол-
[33]
ностью лишенное объемности, кажется абсолютно плоским. Тем не менее, оно обладает привкусом внешней реальности. Оно перемещается, если перемещается ваш взор. Однако, следя за плавающим перед вами зеленым пятном, вы можете наблюдать и истинный, запечатленный в памяти образ первоначального впечатления от абажура. Он красного цвета, позволяет различить довольно много деталей и выглядит трехмерным, то есть обладает глубиной, воспринимаемой бинокулярным зрением.
Минут через пять, когда исчезнут все следы зеленого «после-впечатления», вы по желанию сможете наблюдать запечатленный в памяти четкий образ и красного абажура, и зеленого пятна.
Итак, образы — это явления, совершенно отличные от просто исчезающих впечатлений.
[34]
ЦЕПОЧКА ВОСПОМИНАНИЙ. - Когда вы пытаетесь припомнить последовательность однажды наблюдаемых впечатлений, относящиеся к ним образы наблюдаются вами именно в том порядке, в каком получены первоначальные впечатления, такое расположение называется, как известно, «цепочкой воспоминаний». Примечательно, что процесс припоминания событий в последовательности их возникновения порой требует очень значительных умственных усилий. Но если вы позволите своему уму просто блуждать, как во сне наяву, — не преследуя сознательно никакой определенной цели, то очередность наблюдаемых при этом образов будет мало соответствовать ранее наблюдавшейся последовательности событий.
ЦЕПОЧКА ИДЕЙ. — Эта любопытная очередность возникновения образов называется «цепочкой идей», и, вероятно, довольно существенным является тот факт, что простое, никак не направляемое следование за цепочкой идей, по-видимому, не предполагает никаких умственных усилий или утомления.
Почти каждый человек наверняка забавлялся тем, что вновь прослеживал цепочку идей, которая приводила его — без всякого сознательного намерения с его стороны — к мысли или воспоминанию о чем-то конкретном. Тогда он говорил себе: «Я увидел это, и это воскресило во мне память о том-то и том-то и навело меня на мысль о том-то и том-то». И так далее. Приведем, однако, конкретный пример.
Сейчас вечер. Передо мной стоит чашка с каемкой из черных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее вид (впечатление) «привело» меня
[35]
к запечатленному в памяти образу напольного линолеумного покрытия с шахматным рисунком, которое утром я использовал для эксперимента, позволяющего получить после-впечатления. Тогда, во время опыта, я думал об описании этих явлений Уордом в «Британской энциклопедии»; и теперь передо мной возник образ этого красного тома (у меня малоформатное издание). Вслед за ним появился образ открытой страницы в этом томе и очень живой образ ощущения глазного напряжения, сопутствующего чтению. Это «привело» меня к образу очков, которыми я иногда пользуюсь. А он в свою очередь «привел» меня к образу лупы:
я позаимствовал ее вчера утром в магазине рыболовных принадлежностей, чтобы рассмотреть мушек для ловли форели. Это «привело» меня к образу моего приятеля — его позы в момент, когда он просил меня купить для него мушек. Это «привело» меня к приятному образу 2,5-футовой форели, которую я два дня назад поймал в пруду моего приятеля. Итак, начав с чайной чашки, я добрался до форели.
Исследование природы цепочки идей проливает свет на следующие факты.
РОДОВЫЕ ОБРАЗЫ. — Если в различные промежутки времени внимание задерживалось на нескольких частично схожих впечатлениях, то, помимо ряда соответствующих им образов, запечатленных в памяти, можно наблюдать смутный совокупный образ, состоящий лишь из ключевых элементов, свойственных всем упомянутым отдельным образам. Например, все образы сотен курительных трубок, которые я когда-либо видел, держал в руках и курил, содержат в себе некий общий элемент, теперь воспринимаемый мной в виде нечетко определенного образа трубки вообще. Он обладает всеми существенными характеристика-
[36]
ми, позволяющими отличить трубку от любого другого предмета, скажем, от зонта. Эта «трубка вообще» имеет чашечку для закладывания табака, трубкообразный мундштук, иначе говоря, имеет внешний вид приспособления для курения. Но у этого неопределенного образа нет ни малейшего признака специфического цвета или точных размеров. И все же он, по-видимому, является ядром всех определенных образов конкретных трубок, хранящихся в кладовой моей памяти; ибо если направить туда внимание, тотчас станут доступны наблюдению образы то одной, то другой конкретной трубки.
Эти расплывчатые, почти бесформенные обобщенные образы называются «родовыми образами». Они, похоже, аналогичны центральным узлам, по отношению к которым конкретные, определенные образы выступают в качестве расходящихся во все стороны нитей.
АССОЦИАТИВНАЯ СЕТЬ. - Многие из этих нитей — определенных образов, — очевидно, могут также исходить и из других родовых образов. Например, вполне определенный образ конкретной деревянной чашечки для закладывания табака может принадлежать, с одной стороны, к родовому образу «трубки», а с другой — к родовому образу, называемому мной «обработанное по волокну дерево». Одним из компонентов последнего может быть конкретный образ лакированного стола из орехового дерева, который, в свою очередь, может быть также и нитью, ведущей к родовому образу «мебели». Нить от образа «мебели», скажем, образ конкретного гарнитура, увиденного в витрине магазина, может соединяться с родовым образом «антиквариата». Итак, мы натолкнулись на нечто вроде сети, состоящей из узлов (родовых образов) и расходя-
[37]
щихся от них нитей (определенных образов); по ней внимание наблюдателя может скользить без всякого сознательного усилия с его стороны. Идеи, между которыми существует подобная связь, графически изображаемая в виде сети из узлов и нитей, считаются «ассоциативно связанными». Поэтому описываемую нами структуру можно назвать «ассоциативной сетью».
По общему признанию, ассоциации бывают двух типов: по сходству — когда одно событие вызывает в памяти схожее, но произошедшее ранее событие; и по смежности — когда воспоминание об одном из двух последовательных событий ведет к припоминанию второго.
С точки зрения физиолога ассоциативная сеть — это просто сеть дорожек в мозге, причем «узлами» ее являются области или паттерны мозга, а «соединительными нитями» — дорожки, относящиеся сразу к двум и более областям. Это предположение, по-видимому, адекватно объясняет все явления ассоциации, и, кроме того, насколько мне известно, ни одна другая теория не может объяснить ассоциации по сходству.
Путь, по которому следуют идеи, образующие цепочку, похоже, в значительной степени обусловливается — при отсутствии каких-либо других направляющих факторов — «свежестью» образов. При прочих равных недавно сформированный образ притягивает блуждающее внимание сильнее, чем давно позабытый. В приведенном выше примере цепочки идей, начинавшейся с чайной чашки, все образы относились к недавним событиям. Так, шахматный узор на чашке привел меня не к шахматам — очень примечательному родовому образу, а к увиденному утром куску линолеума. С точки зрения физиологии это должно было бы
[38]
означать, что недавно использованные дорожки в мозге пропускают потоки нервной энергии лучше, чем долгое время неиспользуемые.
Вероятно, предполагаемая «цепочка воспоминаний» есть не более, чем конкретный маршрут по ассоциативной сети — маршрут, недавно пройденный. Попытавшись проследить «цепочку воспоминаний» дальше в обратном направлении, вы обнаружите, что путь утратил четкие ориентиры: образы больше не возникают, так сказать, по собственному почину в неизменно правильной последовательности. Теперь вы вынуждены подсобить своей памяти рассуждениями о том, каково должно было быть следующее событие; и случается, что разум подводит.
СНОВИДЕНИЯ. — Подобно многим другим ментальным явлениям, сновидения в большинстве своем состоят из образов, поставляемых ассоциативной сетью. Однако они существенно отличаются от обычного блуждания ума. В последнем случае почти всегда частично задействован рассудок, определяющий маршрут движения по сети. Но сновидения человека, по-видимому, в значительной мере лишены этого водительства, и их образы предстают реальными — хотя и на удивление зыбкими — эпизодами рассказа о его собственных похождениях, лишь частично осмысленного.
ИНТЕГРАЦИЯ. — Иногда ассоциация между образами бывает достаточно ясной; но обычно ассоциации принимают любопытную форму, известную как «интеграция». Под этим словом мы понимаем «комбинацию ассоциативно связанных образов, составляющие элементы которой качественно различны» (Определение взято из «Dictionary of Philosophy and Psychology» Baldwin'a.) Например, образ розового
[39]
платья, увиденного в понедельник в витрине магазина, и образ молоденькой продавщицы, повстречавшейся во вторник в том же месте, могут — во сне, приснившемся в ночь со вторника на среду — скомбинироваться в единый образ продавщицы, одетой в розовое платье. Однако при пробуждении оба компонента приснившегося, а затем припоминаемого образа — платье и девушка — четко различимы как образы двух первоначально отдельных впечатлений.
* * *
ПОНЯТИЯ. — Следует отметить, что в приведенном выше перечне определений мы не пытались копать глубже «образов» — той группы мыслительных процессов, для объяснения которой имеется наготове теория психофизической связи. Мыслительные процессы более высокого порядка до сих пор не были поняты как следует или, возможно, были поняты приватно. Наши познания о них поддаются описанию лишь в самых общих чертах. Существуют, по-видимому, некие обобщающие идеи — «понятия», используемые нами тогда, когда мы думаем о таких родах деятельности, как, например, «питание», «игра», «воображение» или о «трудности», «истине», «обмане», «различии». Впрочем, остаются сомнения относительно того, можно ли на законном основании собирать их вместе под одним групповым названием. Сравните «питание» и «различие». Не исключено, что первая идея есть не более, чем раздражение более широко определяемых линий какого-то обширного паттерна в сплетении дорожек мозга;
тогда как вторая требует увязки с каждой формулируемой нами единичной идеей.
[40]
Именно здесь анимист имеет возможность развернуть решающий бой в защиту предполагаемой способности наблюдателя вмешиваться в ход событий. Но материалист и тут, вероятно, будет протестовать против незаконного проникновения на значительную часть спорной территории. Ибо очевидно, что человек с поврежденным болезнью мозгом может забыть смысл слова «питание» или довольно смутно представлять себе «различие» между им самим и кузнечиком.
Наш путь, однако, не пролегает через это специфическое поле боя, хотя мы и проходим на расстоянии выстрела от сражающихся. От них мы, впрочем, можем почерпнуть информацию о том, что понятия часто служат путеводными знаками для передвигающегося по ассоциативной сети внимания. Не направляемое ничем внимание едва ли задержится на каком-нибудь понятии без того, чтобы секундой позже не натолкнуться на родовой или даже конкретный образ, явно связанный с главной идеей.
* * *
Прежде чем перейти к следующему разделу, желательно внести полную ясность по поводу одного из аспектов психологии. В любой науке новые факты обнаруживаются путем:
1) логической дедукции из ранее установленных фактов;
2) эксперимента;
3) применения обоих методов, подкрепляющих друг друга.
Факт, относящийся только к группе 2 (т.е. тот, ко-
[41]
торый не был логически выведен из других фактов), требует гораздо больше экспериментальных доказательств, чем факт из группы 1. Если же он, предположительно, вовсе не выводим из имеющихся в нашем распоряжении знаний (например, тот факт, что мы испытываем «боль», когда чрезмерно раздражен определенного рода нерв), его нельзя считать полезным с научной точки зрения, пока он не будет удовлетворять условию — «быть доступным любому человеку для наблюдения» («Dictionary of Philosophy and Psychology» Baldwin'a). Великое множество психологических фактов принадлежит именно к этому разряду «невыводимых»; и имеющий с ними дело психолог следует правилам науки. Он не считает достаточным сказать, что безупречно честные и пользующиеся непререкаемым авторитетом люди исследовали такие-то и такие-то ментальные феномены и в результате установили... напротив, в его суждениях (в отличие от его размышлений) всегда будет подразумеваться: «Проделайте со своим умом то-то и то-то и вы увидите, что природа фактов такая-то и такая-то».
Факт, интересующий нас в этой книге, при первом его обнаружении казался относящимся только к группе 2 и требовал соответствующего метода рассмотрения. Затем мы выясняем, что он принадлежит к группе 1 (т.е. прямо выводим из уже установленных фактов). И, наконец, мы представляем его читателю как факт, входящий в группу 3.
[42]
В этом разделе необходимо вкратце поведать о порой прискорбных и практически не относящихся к делу (о чем уже намекалось во втором абзаце главы 1) событиях. Они, заметим, как две капли воды похожи на ставшие уже классическими примеры пресловутого «ясновидения», «астральных путешествий» и «вестей от умерших или находящихся при смерти людей». Эти инциденты были описаны только по причине их наглядной убедительности (читатель, знакомый с тем, что писалось по поводу психологических доказательств, оценит это) и еще потому, что они — «составная часть «рассказа о ходе исследования». Однако, рассмотренные под иным углом зрения, эти события приобретают исключительную ценность. Ведь у меня не было необходимости получать информацию о них из вторых рук — от какого-нибудь «ясновидящего» или «медиума» (как то обычно бывает), иначе говоря, информацию, в которой содержится масса ложных предположений и пропущены все важные моменты.
Все эти события произошли со мной.
* * *
Первый случай дает прекрасный пример того, что с легкостью можно принять за ясновидение.
Он произошел в 1898 году в Сассексе, где я проживал в гостинице. Однажды ночью мне приснилось, будто я спорю с одним из приезжих о том, сколько
[43]
сейчас времени. Я уверял, что была половина пятого пополудни, он же настаивал на половине пятого утра. С кажущейся нелогичностью, свойственной всем снам, я заключил, что мои часы остановились. Вытащив часы из карманы жилета и взглянув на них, я убедился, что так оно и есть: они стояли и стрелки показывали половину пятого. Тут я проснулся.
Сон этот был для меня особенным (в силу обстоятельств, не имеющих отношения к содержанию данной книги), и под воздействием всей совокупности причин я зажег спичку, чтобы выяснить, действительно ли мои часы не ходят. К моему удивлению у изголовья кровати, где они обычно лежали, их не оказалось. Я встал с постели, поискал вокруг и обнаружил их на комоде. Они — я был уверен — стояли, и стрелки показывали половину пятого.
Разгадка случившегося, думалось мне, проста. Часы, должно быть, остановились вечером предыдущего дня, что я, по-видимому, не преминул заметить. Но потом я забыл этот факт и вспомнил о нем уже во сне. Удовлетворившись таким объяснением, я завел часы, но стрелки переводить не стал, поскольку не знал точного времени.
На следующее утро я спустился вниз и направился к ближайшим настенным часам, чтобы правильно поставить стрелки. Если мои часы, размышлял я, остановились вечером предыдущего дня, а я завел их только ночью и неизвестно когда, то они должны отставать на несколько часов.
К моему великому изумлению оказалось, что стрелки отставали всего на 2—3 минуты — и приблизительно столько же времени прошло между моим пробуждением и заводом часов.
Значит, часы остановились именно в тот момент,
[44]
когда я видел сон, который, вероятно, и приснился мне потому, что я не слышал привычного тиканья. Но тогда каким образом я увидел во сне, что стрелки остановились на половине пятого, как и было на самом деле?
Если бы кто-нибудь рассказал мне подобную сказку, я, наверное, заявил бы, что весь этот эпизод — от начала и до конца, включая подъем с постели и завод часов — ему приснился. Но самому себе я не мог дать такого ответа. Я знал, что находился в бодрствующем состоянии, когда вставал и смотрел на часы, лежавшие на комоде. Тогда чем объяснить случившееся? Ясновидением — видением через пространство в темноте сквозь опущенные веки? Можно даже предположить существование каких-то неведомых лучей, обладающих способностью проникать описанным выше образом и вызывать «видение», чему я, впрочем, не верил. Часы-то лежали выше уровня моих глаз! Да и что это за лучи, которые огибают углы?
Из Сассекса я направился в Сорренто, Италию. Однажды утром я проснулся и, еще нежась в постели, захотел узнать время. У меня не хватало сил взглянуть на часы. Ведь они лежали на маленьком столике по ту сторону москитной сетки и до них можно было дотянуться, но увидеть нельзя, если голова находится на подушке. Тогда мне вздумалось провести эксперимент и выяснить, удастся ли мне и на этот раз посмотреть на часы якобы «ясновидческим» способом. Закрыв глаза и сосредоточенно думая о том, сколько сейчас времени, я погрузился в полудрему — одно из тех состояний, когда все еще осознаешь происходящее. Мгновение спустя я обнаружил, что смотрю на часы. Видение было объемным: часы вертикально висели в воздухе примерно в футе от моего носа, осве-
[45]
щенные дневным светом и окутанные густым беловатым туманом, который заполнял оставшееся пространство в поле зрения. Часовая стрелка показывала ровно восемь, минутная колебалась между 12 и 1, а секундная казалась бесформенным пятном. Я чувствовал, что более пристальное рассмотрение пробудило бы меня окончательно. Поэтому я решил применить по отношению к минутной стрелке прием, которым пользуются при обращении с иглой призматического компаса, деля пополам дугу ее колебания. Получилось две с половиной минуты девятого. Затем я открыл глаза, просунул руку под москитную сетку, схватил часы и, затащив их к себе, поднес к глазам. Я уже вполне очнулся ото сна и увидел, что стрелки показывали две с половиной минуты девятого.
На этот раз я, похоже, был приперт к стенке. Я сделал вывод, что обладаю каким-то загадочным даром видения — видения, позволяющего мне преодолевать преграды, проникать сквозь пространство и огибать углы.
Ноя ошибался.
* * *
Потом произошел случай совершенно иного рода. В январе 1901 года, возвращаясь с Англо-бурской войны на побывку, я остановился в Алассио, на Итальянской Ривьере. Однажды ночью мне приснилось, будто я нахожусь, как мне тогда показалось, в Фашоде, местечке, расположенном вверх по течению Нила недалеко от Хартума. Сон был самым обыкновенным, неярким, за исключением одной особенности — неожиданного появления трех мужчин, бреду-
[46]
щих с юга. Их выцветшая полевая военная форма стала белесой и превратилась в сплошные лохмотья. Из-под пыльных солнцезащитных касок виднелись загоревшие почти до черноты лица. По своему виду они очень напоминали солдат из колонны, с которой я недавно совершал трэк по Южной Африке. Я и принял их за таковых. Но я недоумевал, зачем им понадобилось проделывать путь из Южной Африки в Судан. Когда я спросил их об этом, они заверили меня, что именно это они и делали. «Мы шли прямиком от Мыса Доброй Надежды», — ответил один из них, а другой добавил: «Ну и натерпелся же я. Я едва не умер от желтой лихорадки».
Прочие детали сновидения малосущественны. В то время мы регулярно получали из Англии «Дей-ли Телеграф». Наутро после той ночи мне приснился описанный сон, я раскрыл за завтраком очередной номер газеты, и мой взгляд сразу упал на кричащий заголовок:
ЭКСПЕДИЦИЯ «ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»,
СЛЕДУЮЩАЯ ПО МАРШРУТУ МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - КАИР
прибыла в Хартум. От нашего специального корреспондента
Хартум, вторник (пять часов пополудни)
Совершив незабываемое путешествие, экспедиция, организованная «Дейли Телеграф», прибыла в Хартум и т.д.
В другой заметке, помещенной в той же газете, со-
[47]
общалось, что экспедицию возглавлял М. Лайонел Дэкл. Кроме того, позже я где-то прочел или услышал, что один из трех белых мужчин, входивших в состав группы, умер в пути, но не от желтой лихорадки, а от брюшного тифа. Но верно ли это и действительно ли экспедицию возглавляли три белых человека, я не знаю.
Теперь, по-видимому, надо сделать два замечания.
За несколько лет до случившегося я слышал о намерении М. Лайонела Дэкла предпринять подобного рода трансконтинентальное путешествие. Но вышло ли что-нибудь из его затеи, я не знал. И, разумеется, даже не подозревал о начале экспедиции.
Экспедиция прибыла в Хартум за день до опубликования соответствующего известия в Лондоне и, следовательно, задолго до описанного сновидения, поскольку требовалось время на то, чтобы газета дошла из Лондона в Алассио; сон же приснился мне в ночь накануне ее получения. Это полностью исключало возможность какого-либо «астрального путешествия».
Объяснять случившееся я тогда и не пытался.
* * *
Следующий случай был настолько впечатляющим, что пришелся бы по вкусу каждому любителю чудесного.
Весной 1902 года Шестая моторизованная пехота, в составе которой я находился, расположилась лагерем близ развалин Линдлея в (бывшем) Оранжевом Свободном государстве. Мы тогда только что совершили «трэк»; газеты и почтовая корреспонденция доставлялись нам редко.
[48]
Однажды мне приснился необычайно яркий, но довольно неприятный сон. Я стоял на возвышенности — верхнем уступе какого-то холма или горы. Почва под ногами имела белый цвет и странное строение:
там и сям она была испещрена небольшими трещинами, из которых поднимались вверх струи пара. Во сне я узнал в этой возвышенности остров, прежде уже снившийся мне. Ему угрожало начинавшееся извержение вулкана. Увидев бьющие из-под земли струи пара, я сдавленным голосом прошептал: «Остров! Боже, скоро все взлетит на воздух!». Я читал и хорошо помнил об описании извержения Кракатау, когда морская стихия, устремившись по подводной расщелине в скалах к самому сердцу вулкана, вдруг вскипела и разорвала на куски целую гору. Тотчас меня охватило безумное желание спасти четыре тысячи (я знал численность населения) ни о чем не подозревавших обитателей острова. Но сделать это можно было только одним способом — вывезти их на кораблях. Затем стало твориться что-то ужасное: я метался по соседнему острову, пытаясь уговорить недоверчивые французские власти направить на помощь жителям находившегося в опасности острова все имеющиеся суда. Меня посылали от одного начальника к другому, пока, наконец, я не проснулся от того, что во сне изо всех сил цеплялся за гривы лошадей, тащивших коляску некоего мсье Ле Мэра, который отправлялся обедать и желал, чтобы я зашел к нему на следующий день, когда откроется его контора. На протяжении всего сна меня неотступно преследовала мысль о количестве людей, оказавшихся в опасности. Я повторял это число каждому встречному и в момент пробуждения кричал: «Мэр, послушайте! Четыре тысячи человек погибнут, если...»
[49]
Теперь я уже не помню, когда нам доставили очередную партию газет, но среди них совершенно точно была «Дейли Телеграф». Я развернул ее и увидел следующее сообщение:
ТРАГЕДИЯ НА МАРТИНИКЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА
Город сметен с лица земли Огненная лавина Около 40 000 жертв Британский пароход в огне
Одна из самых жутких в истории человечества трагедий разыгралась в некогда процветавшем городе Сент-Пьер, торговой столице французского острова Маритиника в Вест-Индии. В четверг в 8 часов утра вулкан Монт Пеле, безмолвствовавший целое столетие... и т.д.
Однако нет нужды повторять рассказ о самом трагическом в современную эпоху извержении вулкана.
В той же газете, но в другой колонке, заголовок, набранный более мелким шрифтом, гласил:
ГОРА ВЗЛЕТАЕТ НА ВОЗДУХ
А ниже сообщалось о том, что выбросы песка из кратера вулкана на Сент-Винсенте вынудили шхуну под названием «Океанический странник» покинуть остров; однако пристать к о. Сент-Люсия ей не уда-
[50]
лось из-за неблагоприятных течений, направлявшихся в сторону, противоположную Сент-Пьеру. В этом абзаце были такие слова:
«Когда она отплыла примерно на милю, началось извержение вулкана Монт Пеле».
Далее описывалось, как гора словно раскололась от подножья до вершины.
Не стоит и говорить о том, что вскоре корабли стали вывозить уцелевших жителей на соседние острова.
Теперь необходимо сделать одно замечание.
По предположениям, число погибших составляло не 4 тысячи, как я непрестанно твердил во сне, а 40 000. Я ошибся на один ноль. Тем не менее, в спешке просматривая газету, я прочел приведенное там число как. 4 000; и впоследствии, рассказывая эту историю, я всегда говорил, что напечатано было именно 4 000. И только через 15 лет, когда я наконец снял копию с упомянутого выше абзаца, я узнал, что на самом деле сообщалось о 40 тысячах.
Вскоре мы получили очередную партию газет; там приводились уточненные данные о действительной численности погибших. Но подлинные цифры не имели ничего общего с теми цифрами, которые мне приснились и померещились в первом сообщении. Итак, мое чудесное «ясновидение» подвело меня в самой существенной детали! Впрочем, даже промах доказывал нечто очень важное, ибо откуда у меня во сне могла появиться мысль о 4 тысячах? Очевидно, она должна была прийти мне на ум в результате чтения газетного абзаца, из чего вытекало чрезвычайно неприятное предположение о том, что весь эпизод — следствие так называемой «идентификационной парамнезии» и что никакого сна я не видел: просто по прочтении газетного сообщения мне почудилось, будто я ра-
[51]
нее видел во сне все детали, приведенные в упомянутом абзаце.
Мои раздумья показали, что аналогичной могла быть и природа сновидения, связанного с путешествием от Мыса Доброй Надежды до Каира.
Однако чем больше я размышлял над двумя эпизодами, тем очевиднее становилось, что в обоих случаях именно такого рода сны и должны были присниться мне после прочтения печатных сообщений, иначе говоря, эти сны оказались самыми заурядными снами, основанными на личных переживаниях, вызванных чтением. Но почему я мог верить, что оба сновидения не являлись ложными воспоминаниями, порожденными актом чтения?
Не забывайте, что мне приходилось учитывать и случай с часами; а уж он, определенно, не укладывался в рамки новой теории, если только я не был еще безумнее, чем мог предположить.
И все же меня полностью удовлетворяло то, что сны об экспедиции и Монт Пеле не были ни «астральными путешествиями» ни прямым видением сквозь огромные пространства, ни «посланиями» от реальных действующих лиц описываемых событий. Эти сновидения порождены либо чтением газет, либо телепатической связью с журналистом из «Дейли Телеграф», написавшем упомянутые сообщения.
[52]
К моему великому облегчению, следующий случай, произошедший года два спустя, камня на камне не оставил от теории «идентификационной парамнезии».
Мне приснилось, будто я стою на каком-то помосте, сложенном из поперечных досок. С левой стороны его окаймляли перила, за которыми зияла бездонная пропасть, наполненная густым туманом. Над моей головой, похоже, был навес, но я лишь смутно мог догадываться о нем, поскольку различал впереди себя только часть помоста с перилами на расстоянии 3—4 ярдов — все остальное скрывал туман. Вдруг я заметил, как из глубины пропасти поднимается нечто вроде шеста — длинное тонкое, темное. Он достиг помоста и, наклоняясь, пополз еще выше. Наконец шест уперся в навес — по крайней мере, так казалось по углу его наклона, ибо в тумане невозможно было разглядеть его верхушку. Я уставился на него. Он стал медленно перемещаться вверх-вниз, слегка касаясь перил. Через секунду я понял, что за предмет находится передо мной. Я уже видел подобную штуку в фильме о пожаре, снятом в первые дни кинематографа. Тогда, как и теперь, меня также приводил в замешательство качающийся шест, пока я не догадался, что это была высокая струя воды, бьющей из шланга пожарной машины и сфотографированной сквозь клубы дыма. В таком случае, подумал я, где-то на дне пропасти также должна быть пожарная машина, направляющая струю воды на окутанную дымом площадку с перилами, где я стоял. Только я осознал это, как сон стал просто тошнотворным. На деревянный помост высыпала толпа людей, едва различимых в дыму. Они целыми группа-
[53]
ми падали вниз, оглашая пространство жуткими, сдавленными, прерывающимися криками. Затем неожиданно повалил густой черный дым и плотной завесой окутал все вокруг, включая и помост. Но стоны задыхающихся людей не умолкали. И я был несказанно рад, когда наконец проснулся.
На этот раз теория «идентификационной парамнезии» была полностью исключена. После пробуждения я тщательно припомнил каждую деталь сновидения и только потом раскрыл утренние газеты; ничего относящегося к сновидению в них не содержалось. Однако вечерние номера принесли ожидаемую весть.
Там сообщалось о сильном пожаре, вспыхнувшем на заводе в предместье Парижа. Я полагаю — хотя точно не уверен, — что речь шла о заводе по производству резины. Но в любом случае завод выпускал какие-то материалы, при горении выделявшие едкий дым. Огонь преградил путь молоденьким работницам, и они бросились к балкону, где могли находиться в относительной безопасности. Однако принесенные лестницы оказались слишком короткими и не позволяли спуститься вниз. И пока добывали лестницы подлиннее, пожарные машины направляли струи воды на балкон, не давая пламени перекинуться на это убежище. Но вдруг произошло нечто не имеющее, как я полагаю, аналогов в истории пожаров. Из разбитых балконных окон стали вырываться наружу столь плотные клубы дыма от горящей резины или какого-то другого вещества, что несчастные девушки, хотя и стояли на свежем воздухе, все до последней задохнулись, прежде чем подоспели лишь люди с новыми лестницами.
Этот сон еще больше озадачил меня: казалось, его вообще нельзя объяснить. «Ясновидение» — не объяснение, а бессмысленное выражение, простое призна-
[54]
ние необъяснимости явления. Да и термин «телепатия» применим к случившемуся лишь с большой натяжкой.
* * *
Затем мне приснился другой сон, внесший некоторую ясность, ибо однозначно исключал умопомешательство, ясновидение, астральные путешествия, послания отдухов и телепатию.
В 1904 году, через несколько месяцев после того, как я видел во сне пожар, я приехал в Австрию и остановился в отеле «Схоластика» на границе Аахензее. Однажды ночью мне приснилось, будто я иду через поле вниз по тропинке, с обеих сторон обнесенной железной оградой высотой 8—9 футов. Неожиданно на поле слева от меня появилась лошадь. Она, казалось, обезумела: носилась сломя голову, брыкалась и рвалась вперед, словно одержимая. Я быстро огляделся, желая узнать, есть ли в ограде какая-нибудь лазейка, через которую животное могло бы вырваться. Убедившись, что лазейки не было, я продолжил свой путь. Однако через несколько мгновений я услышал позади себя стук копыт. Обернувшись, я с ужасом увидел, что животное каким-то непонятным образом все же вырвалось и во весь опор мчалось за мной по тропинке. Это была здоровая кобыла; я же трусил, как заяц. Впереди дорога заканчивалась подножием деревянной лестницы, ведущей куда-то наверх. Я изо всех сил устремился к спасительным ступеням и в этот момент проснулся.
На следующий день мы с моим братом отправились на рыбалку. Мы шли вниз по речушке, вытекавшей из
[55]
Аахензее. Я бороздил воду и усердно ловил рыбу внахлестку, когда брат крикнул: «Взгляни вон на ту лошадь!» Бросив взгляд на другой берег реки, я узнал сцену из ночного сновидения. Схожесть основных деталей была абсолютной, но мелкие детали — совсем другими. Была огороженная тропика между двумя полями. Была лошадь, по своему поведению напоминавшая лошадь из сновидения. Были деревянные ступени в конце тропинки (они вели к мостику через реку). Но ограда оказалась деревянной и низенькой — не более 4—5 футов в высоту, поля — самыми обыкновенными, небольшими, тогда как мне снились поля размером с парк; а животное — вовсе не буйным чудовищем, а маленькой лошадкой, хотя ее поведение и внушало тревогу. Наконец, если представить, что я, как и во сне, иду по тропинке вниз к мосту, то лошадь оказывалась на поле справа от меня, а не слева. Едва я начал рассказывать брату свой сон, как осекся: лошадь стала вести себя настолько странно, что мне захотелось убедиться в том, что она не вырвется за ограду. Как и во сне, я критически осмотрел изгородь. Удовлетворенный осмотром, я произнес: «В любом случае эта лошадь не вырвется» — и снова принялся ловить рыбу. Однако возглас брата «Смотри!» прервал меня. Подняв взор, я увидел, что от судьбы не уйти. Как и во сне, животное каким-то необъяснимым образом вырвалось (вероятно, перепрыгнув через ограду) и, стуча копытами, неслось по тропинке вниз к деревянным ступеням. Промчавшись мимо лестницы, лошадь ринулась в реку и направилась прямо к нам. Мы, схватив камни, отбежали от берега ярдов на 30 и повернулись кругом. Развязка, впрочем, была неинтересной: выпрыгнув из воды на нашей стороне, лошадь просто посмотрела на нас, фыркнула и галопом поскакала вниз по дороге.
[56]
Из этого случая, как я полагал, явствовало одно: описанные сны не были указаниями (впечатлениями) на удаленные в пространстве или грядущие события. Это были обычные сны, составленные из образов, относящихся к реальным событиям, но искаженных и связанных между собой характерной для снов полубессмысленной связью. Иначе говоря, если бы каждый из этих снов приснился мне в ночь после соответствующего события, они не содержали бы ровным счетом ничего необычного и, подобно любому обыкновенному сновидению, несли бы в себе столько же истинной информации о породивших их реальных событиях, сколько и ложной — а это, согласитесь, очень мало.
Итак, это были обыкновенные, вполне уместные и ожидаемые сны; но каждый из них приснился мне не в ту ночь, в какую полагалось.
Даже сны, в которых фигурировали часы, должно быть, приснились мне после того, как я увидел часы наяву. В первом случае я, проснувшись, увидел часы с остановившимися стрелками, лежавшие вверх циферблатом на комоде; и в соответствующем сновидении также был образ остановившихся часов, повернутых циферблатом вверх. Во втором случае я, лежа на подушке, держал часы на весу примерно в футе от своего носа; а когда я впал в полудрему, передо мной возник образ часов, висевших в точно таком же положении. Образ белого тумана, конечно же, относился к москитной сетке, расположенной вне фокуса моего внимания; так было и тогда, когда я смотрел на настоящие часы.
Значит, если рассматривать эти сны только как сны, в них не обнаруживается ничего необычного. Просто происходящие в них события смещены во времени.
[57]
Само по себе данное обстоятельство достаточно удивительно. И все же я чувствовал, что сделал огромный шаг вперед, сведя все эти разнообразные явления к одному знаменателю — простой, хотя и загадочной перестановке дат.
Однако я был еще очень далек от истины. Два оставшихся случая, о которых я намереваюсь рассказать в этом разделе, не содержали в себе ничего такого, что побудило бы меня отказаться от уже наполовину оформившейся мысли о том, что разгадка тайны кроется во временных смещениях. Однако не сделай я этого полуоткрытия, я, несомненно, счел бы случай, о котором ниже пойдет речь, «посланием из мира духов» или «фантазмом умирающего».
* * *
В 1912 году я довольно долго находился на Салисберской равнине, где проводил испытания одного из моих устойчивых аэропланов. Соревнования военных аэропланов были в самом разгаре; присутствовали почти все офицеры тогда еще небольшого Королевского летного корпуса. Все они являлись моими давними приятелями, за исключением одного человека, которого я не знал. Видел я его очень редко и говорил с ним, думаю, раза два, не больше. Назовем его лейтенантом Б. Полагаю, этого вполне достаточно, поскольку мои воспоминания не свидетельские показания и не должны рассматриваться как таковые. Вскоре после окончания соревнований начались ежегодные армейские маневры. Не имея к ним никакого отношения, я уехал в Париж, чтобы провести проверку еще одного летательного аппарата, сконструированного по моему проекту.
[58]
В Париже однажды утром мне приснилось, будто я стою посреди огромного луга в какой-то незнакомой мне местности. Вдруг ярдах в 50 от меня в землю с силой врезается моноплан. Сразу вслед за этим я увидел, как с места крушения в мою сторону направляется лейтенант Б. Я спрашиваю его, насколько серьезны повреждения. Он отвечает: «Да так, пустяки, — и добавляет — чертов двигатель! Но теперь-то я его приструнил!» Это был довольно длинный сон о бесконечных авариях, в которые постоянно попадали аэропланы (типичная форма ночных кошмаров, преследующих меня и по сей день), и внезапное падение лейтенанта Б. было далеко не худшим из того, что мне снилось тогда. Когда я проснулся, у моей постели стоял слуга с утренним чаем. Позднее этот факт помог мне установить, что сон приснился мне около 8 часов утра.
Лейтенант Б. погиб в то утро между 7 и 8 часами, упав на луг неподалеку от Оксфорда. Но я прочел о несчастном случае лишь на третьи сутки.
Теперь следует сделать несколько замечаний:
1. Поломка двигателя не имела никакого отношения к случившемуся, да и сам лейтенант Б. ни минуты в этом не сомневался, ибо моноплан шел на посадку и двигатель был частично или полностью выключен. Несчастный случай же произошел из-за расцепления устройства немедленного разъединения в одной из главных несущих расчалок и последующей поломки одного крыла. Разумеется, приземление могло быть и вынужденным из-за неисправности двигателя; но сам лейтенант Б., несомненно, не подозревал о том, что крыло поломано.
Между тем когда мы с моей сестрой находились на равнине, лейтенант Б. однажды в разговоре с ней обмолвился о двигателе почти в тех же словах, которые
[59]
он произнес в моем сне; и она, очевидно, передала их мне. Она непременно должна была это сделать.
2. Лейтенант Б. летел в качестве пассажира, а пилотировал моноплан какой-то неизвестный мне человек, который тоже разбился. Подобные детали в моем сновидении отсутствовали.
Однако при чтении заметки об аварии я обратил внимание только на имя лейтенанта Б.; о гибели другого человека я узнал лишь через несколько лет, когда разыскал сообщение об этом несчастном случае.
3. В газетной заметке вообще не говорилось о причине аварии, и я, вероятно, полагался только на слова самого лейтенанта Б. о двигателе.
4. Во временном совпадении нет ничего удивительного. В те дни, как я уже упоминал, мне часто снились крушения аэропланов, причем такого рода кошмары мучили меня именно в промежуток между 7 и 8 часами утра, когда в сознание начинает проникать шум городского транспорта.
В результате я пришел к выводу, что мой сон и на этот раз оказался связанным с прочтением заметки в газете.
* * *
Теперь я расскажу о последнем эпизоде из этой серии. В данном случае хронологический сдвиг был гораздо значительнее.
Осенью 1913 года мне приснилась высокая железнодорожная насыпь. Во сне я знал — знал абсолютно точно, как знает тот, кто знаком с местностью, — что действие разворачивалось в Шотландии, севернее the Firth of the Forth Bridge. За насыпью простирались
[60]
въезжие лугопастбищные угодья, где небольшими группами ходили люди. Во сне эта сцена то возникала, то исчезала. И когда она возникла в последний раз, я увидел, что поезд, двигавшийся на север, сошел с насыпи. Под откос скатилось несколько вагонов, вниз сыпались огромные камни. Я подумал, что это один из тех странных снов, которые иногда снятся мне, и попытался «получить» дату подлинного события. Мне, однако, удалось установить лишь то, что оно произойдет весной следующего года. Помнится, я остановился наконец на середине апреля, хотя моя сестра полагает, что я упоминал о марте, когда утром рассказывал ей свой сон. Шутки ради мы решили предостеречь наших друзей от путешествий на север Шотландии весной.
14 апреля следующего года «Летучий шотландец», один из самых известных почтовых поездов тех лет, перелетел через парапет близ станции Burntisland, расположенной в 14 милях к северу от the Forth Bridge, и с 20-футовой высоты упал на площадку для игры в гольф.
* * *
Описанные выше сны я отобрал примерно из 20 им подобных просто потому, что по пробуждении детально изучил их и тщательно записал. Большая часть других снов была отмечена лишь en passant и теперь почти полностью забыта. Любопытно, что я не припомню снов о приближавшейся тогда мировой войне — за исключением одного, связанного с бомбардировкой Левештофта германским флотом. Я узнал место действия, но не имел ни малейшего представления о государственной принадлежности судов.
[61]
Вряд ли кому-нибудь доставит большое удовольствие мысль о собственной чудаковатости. И мне следовало бы сразу причислить себя к «медиумам» и тем самым обзавестись хоть какими-то единомышленниками. Но, к сожалению, было абсолютно ясно, что во всем происходящем со мной нет и намека ни на «медиумизм», ни на «сверхвосприимчивость», ни на «ясновидение». Должно быть, некий загадочный изъян искажает мое отношение к действительности столь необычным образом, что мне иногда удается видеть смещенные во времени целые эпизоды нормальной человеческой жизни. Знание о возможности подобного смещения само по себе уже представляет огромный интерес. Но, к несчастью, в данных обстоятельствах это знание было доступно только одному человеку — мне.
Однако у меня оставалась слабая надежда на то, что, ухватившись за добытый таким странным способом кусочек знания, я сумею обнаружить в структуре вселенной особенность, на которую до сих пор никто не обращал внимания. И я принялся задело.
Успешно, хотя и чрезвычайно медленно, я продвигался к намеченной цели. От концепции времени как четвертого измерения было мало проку, поскольку ученые мужи всегда рассматривали время подобным образом. Между тем требовалось показать возможность смещения в этом измерении. Не устраивала меня и теория Бергсона, ибо бесполезно говорить о неделимости времени человеку, столкнувшемуся с явно
[62]
смещенными временными отрезками. Меня нисколько не волновал вопрос о том, является ли время «формой мышления» или аспектом реальности или сопоставимо ли оно с пространством. Я хотел лишь знать, как происходит перемешивание во времени.
Слово «перемешивание» казалось мне вполне подходящим. Ведь между сновидением и соответствующим реальным событием вклинивалось воспоминание о сновидении, тогда как завершало последовательность воспоминание о реальном событии!
Приближавшаяся мировая война приостановила мои изыскания; я возобновил их только в 1917 г., когда получил новые данные.
В январе 1917 г. я поправлял здоровье после операции в Guy's Hospital. Однажды утром, читая книгу, я встретил упоминание о кодовом замке, который открывается вращением колесиков с нанесенными на них буквами алфавита. Вдруг что-то как бы шевельнулось в памяти — и мгновенно исчезло. Я на секунду оторвался от книги, но, ничего не припомнив, опять принялся за чтение. Потом, однако, я, к счастью, передумал и, отбросив книгу в сторону, твердо решил поймать промелькнувшую ассоциацию. Через некоторое время она вновь всплыла в сознании. Оказалось, что прошлой ночью именно такой замок привиделся мне во сне.
Не стоит и говорить, насколько мала была вероятность совпадения между двумя столь непримечательными, заурядными событиями. Если мне не изменяет память, уже год или больше года я не видел, не слышал и не думал о подобных замках. Но по опыту зная, что иногда мои сны содержат в себе образы будущих событий, я не исключал, что появление образа замка в ночном сновидении вполне могло бы служить еще одним
[63]
доказательством моей ненормальности. В любом случае пренебрегать этим предположением не следовало.
Через несколько дней в Silvertown'e прогремел сильный взрыв: задрожало здание, посыпались оконные стекла и медсестры поспешили погасить свет, опасаясь налета «цеппелинов». Случай, просто созданный для того, чтобы присниться. И он действительно мне приснился, но, как обычно, не в ту ночь, в какую полагалось, а в ночь накануне взрыва. Когда после происшествия я рассказывал об этом своему приятелю по госпиталю, он, неожиданно прервав меня, воскликнул: «Постойте... Странно... Только теперь я припоминаю, что прошлой ночью мне также снился взрыв».
Деталей сновидения ему не удалось вспомнить, и, поскольку во время войны взрывы были обычным явлением, все могло бы объясняться простым совпадением. Но если это не так и его сон относится к той же категории, что и мои сны? Тогда какие выводы напрашиваются?
Мне предстояло рассмотреть два новых предположения. Каждое из них, взятое отдельно, казалось до крайности сумасбродным; но в паре они наводили на некоторые мысли и поэтому заслуживали чуть более пристального внимания.
Если первое предположение справедливо, значит пред-образы моих сновидений связаны не только с волнующими, трагическими событиями, но и самыми что ни на есть тривиальными, например чтением книги, где говорилось о кодовом замке. Точно так же приснившиеся образы уже свершившихся событий связаны с впечатляющими моментами ничуть не реже, чем с моментами малозначительными. Кроме того, лишь по чистой случайности я решил припомнить сон о
[64]
замке; не сделай я этого, я бы не соотнес с ним реального факта. Отсюда можно заключить, что мне, должно быть, довольно часто снились подобные сны, но я либо сразу забывал их, либо не замечал их связи с последующими событиями.
Далее, если верно предположение об аналогичной природе сна моего приятеля, то надо признать, что ему как раз и не удалось заметить у казанную связь. Сон не был полностью забыт, но реальный взрыв не напомнил о нем.
Едва мои размышления навели меня на эти идеи, как ко мне явился мой приятель и, немного волнуясь, сказал: «Помните, мы беседовали о снах? Так вот, я разговаривал с тем-то и тем-то (хирургом) и он сообщил мне о любопытном случае, который произошел с ним недавно ночью. Он лег спать, и ему приснилось, будто его будят и он вынужден встать и направиться к пациенту с переломанной ногой. Сразу после того, как он увидел во сне этот эпизод, его действительно разбудили, поскольку был получен срочный вызов к больному с подобным диагнозом. Рассказывая об этом, он подчеркнул, что уже более шести недель ему не доводилось лечить перелом ноги».
Итак, передо мной — третий и, по-видимому, аналогичный случай. Чем объяснить его? Должно быть, хирург поведал о нем нескольким знакомым; те сочли все простым совпадением (возможно, так оно и было);
и вскоре он забыл о своем сне. Но...
Но как быть с тем удивительным ощущением, которое время от времени испытывает практически каждый из нас, — той внезапной, мимолетной, смущающей убежденностью, что происходящее в данный момент уже когда-то происходило?
Как понимать те случаи, когда, нежданно-негадан-
[65]
но получив письмо от друга, вы вспоминаете, что накануне ночью он вам снился?
Как относиться к тем, казалось бы, полностью забытым ночным снам, которые днем внезапно всплывают в памяти без всякой видимой причины? Какие ассоциации воскрешают их?
А просыпаясь от шума или какого-либо другого воздействия на ваши чувства, что вы скажете о приснившемся вам загадочном сне, заключительным эпизодом которого и было упомянутое выше ощущение? Почему этот завершающий эпизод всегда оказывается логически подготовленным всем ходом сновидения^
Наконец, как объяснить все те собранные и зафиксированные Обществом Психических исследований случаи, когда ночной сон о смерти друга сопровождается получением на следующий день подтверждающего известия? Эти сны, очевидно, были не «посланиями отдухов», а примерами моего «феномена», иначе говоря, обыкновенными снами, связанными с предстоящим событием в личной жизни — чтением соответствующих известий.
Целую неделю я только и делал, что строил предположения, начисто лишенные научности. В итоге я решил, что должен до конца пройти этот путь греха, и предпринял последний безрассудный шаг, отважившись на самое нелепое предположение.
А что если это вполне нормальные явления?
Что если сны — сны вообще, любые сны, сны каждого человека — состоят как из образов прошлых событий, так и из образов будущих событий, смешанных примерно в равных пропорциях^.
Что если вселенная, в конце концов, действительно протянута во времени и наш однобокий взгляд на нее — взгляд, непонятным образом скрывающий от нас
[66]
«будущее» и движущимся «настоящим моментом» отрезающий нас от нарастающего «прошлого», — порожден барьером, который воздвигается нашим умом и существует только тогда, когда мы бодрствуем? Что если ассоциативная сеть действительно протянута не только в том или ином направлении в пространстве, но и назад и вперед во времени, и внимание сновидящего, естественно и беспрепятственно следуя наилегчайшим путем по разветвлениям сети, постоянно пересекает тот на самом деле несуществующий экватор, который мы при пробуждении совершенно произвольно проводим поперек вселенной?
Надо заметить, что высказанное выше предположение я не рассматривал в качестве возможного объяснения. По-прежнему оставались необъясненными нарушения в порядке следования переживаний, когда сначала появлялось сновидение, затем воспоминание о сновидении, соответствующее впечатление наяву и, наконец, воспоминание о нем. Однако это предположение могло бы подвести под интересующую нас проблему совершенно иное основание. Тогда больше не возникало бы вопроса, почему человек способен наблюдать будущие состояния своего сознания; это стало бы нормальным и привычным делом. А главный вопрос звучал бы так: что это за барьер, который при определенных обстоятельствах лишает человека должного и целостного взгляда на вещи?
Но все это, подобно вспышке молнии, пронеслось перед моим мысленным взором слишком быстро, чтобы стать предметом анализа. Однако еще быстрее все это было отвергнуто, ибо абсолютно непостижимым казался тот факт, что такого рода идея — если она верна — на протяжении веков ускользала от всеобщего внимания и признания.
[67]
Через некоторое время я понял, что это внезапное отступление нелогично. Ведь мое предположение целиком основывалось на ранее высказанной гипотезе о том, что процесс припоминания увиденных во сне образов наталкивается на какое-то препятствие. Именно оно не позволило моему приятелю установить связь между сновидением и реальным взрывом. Память о событии воскресает только тогда, когда имеется оживляющая ее ассоциация; но если ассоциация лишена воспламеняющей силы, никакого припоминания не получится.
К тому же обычно нам снятся сны о самых заурядных, повседневных вещах. И даже если бы наш сон действительно касался события завтрашнего дня, мы, естественно, соотнесли бы его с аналогичным событием дня прошедшего. Далее нужно учесть, что 9/10 всех снов полностью забываются в первые секунды пробуждения, а немногие избежавшие подобной участи удерживаются в памяти до окончания процедуры бритья. Наконец, к вечеру забываются даже те сны, которые удалось вспомнить и зафиксировать в сознании. Прибавьте к этому частичный запрет на нужную ассоциацию, налагаемый нашим умом, и чисто автоматическое признание невозможности припоминания. В итоге получается, что подмеченными оказываются лишь очень немногие из наиболее впечатляющих, подробных и (вероятно) наиболее эмоционально окрашенных эпизодов сновидения. Но и они, по-видимому, будут либо объяснены как «послания отдухов», либо приписаны действию телепатии или чего-то такого, что, хотя в других отношениях и является пол-
[68]
нейшим абсурдом, тем не менее вполне укладывается в привычные рамки представления об абсолютном, единственном, одномерном времени.
Разумеется, теория о нормальности рассматриваемых нами явлений нуждается в тщательной проработке. Предположение, сделанное в предыдущей главе, страдает незавершенностью; да и кто знает, будет ли вообще дано полное описание его доказательства. Впрочем, была также выдвинута и прямо противоположная гипотеза о ненормальности. Но это означало ненормальность не просто в смысле избытка или недостатка какого-то свойства ума, а в смысле, который сам есть бессмыслица. Но трудно поверить в совершеннейшую нелепицу.
Кроме того, если предположение о нормальности, иначе говоря, о наличии некой особенности, присущей самому времени, а не отдельному человеку, верно, то оно означало бы (и это привлекало меня больше всего), что интересующие нас явления должны быть потенциально «доступны для наблюдения любому при условии, что он выполняет необходимые требования».
И если бы кто-нибудь придумал эксперимент, позволяющий преодолеть две изначальные трудности припоминания и нахождения нужной ассоциации, выяснилось бы, что описываемые нами явления могут быть непосредственно наблюдаемы любым нормальным человеком, включая и вас, читатель.
Итак, проведение такого эксперимента стало для меня первым шагом. Позднее могло бы найтись (и действительно нашлось) объяснение.
[69]
Читатель, вероятно, догадался, что эксперимент, о котором шла речь в предыдущей главе, был осуществлен, причем успешно; в противном случае эта книга не была бы написана.
Лишь зимой следующего года я смог достаточно серьезно отнестись к гипотезе о нормальности, чтобы проверить ее на практике. И, томимый дурными предчувствиями, почти не надеясь на успех, я приступил к проведению первого весьма важного эксперимента на самом себе. Я знал, что интересующие меня сны снятся мне регулярно, но с промежутками в год и более. Однако, согласно моей новой теории, я должен был видеть такие сны в течение всех этих промежутков, хотя и не осознавать их.
Как правило, в девяти случаях из десяти, просыпаясь утром, я вообще не помнил, чтобы мне что-нибудь снилось. Впрочем, данное обстоятельство не сильно тревожило меня. Многие люди искренне полагают, что никогда не видят снов. Между тем проведенные мной опыты убедили меня, что «сон без сновидений» — обман памяти. На самом деле человек в момент пробуждения просто забывает свои сны. Например, однажды я лишь через несколько дней вспомнил сон, который видел, находясь под анестезией; но в течение всех этих дней я думал, что был тогда в полностью бессознательном состоянии.
Итак, прежде всего я поверил в возможность воскресить в памяти фрагменты утраченных снов, снившихся мне в те ночи, когда я, казалось бы, спал вообще без сновидений. В соответствии с моей новой гипотезой фрагменты должны содержать в себе образы и
[70]
прошлых и будущих событий. Причем в большинстве случаев эти образы не возникают изолированно друг от друга, но, напротив, настолько тесно сплавлены и переплетены между собой, что трудно соотнести их с какими-то конкретными реальными событиями. И если иногда удается отождествить тот или иной компонент сплава с конкретным событием прошлого (см. определение «интеграции», данное в части I), значит, вполне возможно отождествить другой компонент сплава с конкретным будущим событием. Но нужно сделать одно важное замечание: никогда не пытайтесь отыскать в сновидении законченную идею или сцену, целиком относящуюся к будущему. Иллюстрацией моей мысли может служить сон о лошади, рассказанный в части 11. Сон в основном относился к будущему, однако такие детали, как внешний вид животного, размеры полей и высота изгороди, были взяты, насколько мне известно, из моего прошлого опыта.
Проводя эксперимент, желательно записывать запомнившиеся сны, чтобы затем сравнить два реальных весомых факта — запись и событие, происшедшее наяву. И лучше всего записывать сны как можно подробнее: это облегчит последующий анализ приснившихся образов. Краткая, с указанием массы деталей запись ценнее любого многословного расплывчатого пересказа.
Но подробности важны и по другой, еще более убедительной причине. Длинное сновидение содержит великое множество образов, а длинный день — великое множество впечатлений. И по закону вероятности некоторые из них совпадут, если, конечно, проводить эксперимент достаточно долго. Итак, подтверждающие сходство детали имеют решающее значение, например, привидевшийся ночью во сне столбик монет,
[71]
стоящий на столе, и созерцание на следующий день монет, сложенных аналогичным образом, вполне может относиться к разряду простых совпадений. Значит, необходимы дополнительные детали, характеризующие эпизод: например, вам снится кучка шестипенсовиков, рассыпанных на красной книге, а затем вы видите подобную картину наяву. (Остальные подробности сновидения — стол, комната, причина, по которой рассыпались монеты — наяву могут быть совершенно иными; но не это главное.) Существенно другое: нельзя считать явно относящимся к будущему все, что не содержит в себе элементов, так сказать, «двоеборья», если воспользоваться термином игрока на скачках.
Далее следует установить некоторые временные ограничения на проведение эксперимента. Ибо очевидно, что даже сон о рассыпавшихся по красной книге шестипенсовиках когда-нибудь бы да совпал с реальным событием, если, конечно, посвятить всю свою жизнь отысканию соответствия. Между тем банковскому служащему, должно быть, понадобилось бы на это недели две. Я решил ограничиться двумя днями, хотя этот срок мог быть увеличен пропорционально необычности приснившегося эпизода. Так, сон о бомбардировке Левештофта приснился мне примерно за год до соответствующего реального события; а однажды я увидел во сне образ (ниже я опишу его), бесспорно относившийся к событию, которое произошло лет двадцать спустя.
Поскольку возможность удовлетворительной идентификации зависит, по-видимому, в основном от степени необычности приснившегося, наихудшее время для проведения эксперимента — период, когда вы ведете скучную, будничную жизнь. Но даже в таких
[72]
условиях полезно отправиться в театр или кинотеатр (это, замечу, очень ценный совет). Не исключено также, что вам будут сниться сцены из романов, которые вы собираетесь прочесть (от себя добавлю, что этот путь приносит великолепные результаты). Но в целом для экспериментов лучше всего выбирать ночи накануне путешествия или какого-либо другого события, нарушающего монотонное течение вашей жизни.
Затем возникает вопрос о подсчете полученных результатов. Выдержавшими испытание считались случаи, когда прежде чем произойти наяву, снилось какое-то одно очень необычное событие либо снилось несколько довольно необычных событий. Причем если только одно из приснившихся довольно необычных событий подтверждалось реальным фактом, случай можно было бы с полным основанием приписать исключительному совпадению. Поэтому случаи, касающиеся какого-то одного важного события, я решил помечать знаком «+», а случаи, касающиеся нескольких менее важных событий и требующие дополнительных подтверждений, — знаком, похожим на булочку с изображением креста: Å.*
Таковы были определенные мной условия эксперимента и природа трудностей, с которыми я приготовился столкнуться. И я действительно с ними столкнулся. Но двух трудностей я все-таки не предвидел.
Сновидящее сознание — искусный лжеинтерпретатор всего, что оно воспринимает. Вот почему следует выделять в качестве отдельных фактов (а) собственно внешний облик приснившихся объектов; и (б) данную ему интерпретацию.
Поясню свою мысль на конкретном примере. Однажды во время проведения эксперимента мне при-
* Такую (горячую) булочку едят в пятницу и во время великого поста.
[73]
шлось раздувать костер с помощью ручных мехов. И неожиданно сопло инструмента соприкоснулось с раскаленной докрасна поверхностью бревна, находящегося передо мной. Не знаю, доводилось ли читателю пережить такой момент или нет, но эффект был потрясающим, если не сказать пугающим. От костра прямо мне в лицо брызнул мощный каскад искр — зрелище, напоминающее сезонные фейерверки в Хрустальном Дворце. Потоки искр заструились мимо моих ушей, и, боясь ослепнуть, я отпрянул назад. Но огня в искрах, похоже, не было; по крайней мере, одежду они не прожигали. Событие, согласитесь, удивительное и неординарное, причем накануне ночью мне снился точно такой же каскад искр, мелькавших мимо моих ушей. Однако при записи сна я зафиксировал не это непосредственное впечатление — каскад мельчайших искр, а объяснение, которое я впоследствии дал ему: будто люди из толпы кидают окурки от сигарет. Итак, всегда необходимо отмечать и сам образ, и интерпретацию образа.
Ко второй трудности надо отнестись с особым вниманием, ибо именно в ней я нашел ответ на волновавший меня вопрос: почему такая особенность нашего восприятия времени, как видение во сне будущих событий, на протяжении веков ускользала от взгляда людей.
Бодрствующее сознание категорически отказывается признавать связь между сновидением и последующим реальным событием. Для него эта связь — ложный кружной путь; и стоит только ей обнаружиться, как она моментально отвергается. Сопротивление нашего ума — автоматическое и чрезвычайное мощное. Даже при наличии неопровержимого доказательства — записи сновидения — человек хватается за лю-
[74]
бой предлог, лишь бы избежать признания очевидного факта. Одна из самых распространенных уверток — отличающиеся от увиденных наяву второстепенные подробности приснившегося эпизода, иначе говоря, несоответствие определенных частей «интеграции» реальному событию, что, впрочем, ничуть не умаляет тот факт, что в эпизоде или «интеграции» имеются куски, которые соответствуют требуемой степени точности.
В результате оказывается, что, просматривая по прошествии одного или двух дней свои записи, человек наталкивается на нужные ему данные, но не замечает их связи с реальными событиями. Поэтому читать надо медленно, периодически прерывая чтение размышлениями и сопоставлением записанного с событиями прошедшего дня. Почти во всех случаях, о которых я расскажу ниже, связь сначала была ухвачена лишь мельком, затем мгновенно отвергнута и лишь потом, благодаря весомости первоначально незамеченных подтверждающих деталей, принята.
Простейший способ избежать подобного рода невнимательности — убедить себя в том, что вы собираетесь прочесть записи, относящиеся к снам, которые приснятся вам грядущей ночью; а затем поискать среди событий дня минувшего такие, которые с полным правом можно рассматривать как причины этих снов. Это вполне допустимый прием. Он не влияет на ваши суждения. Его назначение — помочь вам заметить нужные факты. Но делать выводы вы будете сами чуть позже, опираясь исключительно на подтверждающие детали и абстрагируясь от временной последовательности событий.
[75]
* * *
Способ воскресить в памяти забытые сны довольно прост. Положите под подушку блокнот и карандаш и по пробуждении, еще даже не открывая глаз, сразу начинайте вспоминать быстро ускользающий сон. Как правило, на первых порах удается припомнить лишь какой-то один эпизод, причем он кажется столь туманным, ничтожным и ни с чем не связанным, что заставляет усомниться в необходимости вообще фиксировать его на бумаге. Однако не пытайтесь вспомнить что-либо еще. Лучше сосредоточить внимание на этом эпизоде и постараться припомнить его подробности. Тогда перед вами возникает, подобно вспышке молнии, целый фрагмент сновидения, связанный с этим эпизодом. Обычно при этом наряду с фрагментом всплывает — что гораздо существеннее — и какой-то отдельный эпизод из предыдущего сновидения. Вычлените как можно больше таких отдельных эпизодов, временно игнорируя их контекст. Запишите кратко — в двух-трех словах — эпизоды в блокнот.
Далее надо рассмотреть эпизоды. Возьмите первый из них и концентрируйтесь на нем до тех пор, пока не вспомните связанный с ним сюжет сновидения. Кратко запишите основную канву сюжета. То же самое проделайте и с другими эпизодами. Затем сокращенные записи изложите подробно. Отмечайте как можно больше деталей, особенно если эпизод показался бы вам необычным, произойди он в реальной жизни. Ведь благодаря именно такого рода событиям вам вероятнее всего удастся получить требуемые доказательства.
И не позволяйте своим мыслям отвлекаться на что-либо еще до тех пор, пока не закончите записи.
[76]
Не пытайтесь просто вспоминать сновидения. Записывайте их. Просыпаясь посреди ночи, я не раз самым тщательным образом вспоминал свои сны; но как бы твердо я ни был уверен в том, что они прочно закрепились в памяти, наутро от них не оставалось и следа. Даже те сны, которые я припомнил перед тем, как встать, и прокручивал в памяти, когда одевался, к концу завтрака почти всегда забывались.
Разумеется, записать все детали невозможно. Полное описание внешнего вида только одного персонажа сновидения отняло бы у вас минут десять. Но записывайте общие детали и все необычные детали. Остальное зафиксируйте в памяти, перечитывая окончательный вариант записей и визуализируя каждый эпизод. Тогда если какая-нибудь из этих незаписанных деталей впоследствии окажется существенной, вы с удовлетворением отметите, что уже не в первый раз вспоминаете ее.
Если при пробуждении вам покажется, что вы вообще не видели снов и не в состоянии припомнить ни одной детали, откажитесь от намерения вспомнить сновидение. Лучше сосредоточьтесь на припоминании того, что вы думали в момент пробуждения. Вспомнив эту мысль, вы обнаружите, что она проистекает из сновидения, — и сновидение тотчас начнет возвращаться.
* * *
В период проведения эксперимента в конце каждого дня перечитывайте свои записи с самого начала.
В следующей главе будет описано то, что вы можете надеяться отыскать.
[77]
Отчет об экспериментах, приведенный ниже, не научное доказательство и не должен — повторю еще раз — рассматриваться как таковое. Доказательством и частично оправданием данной книги он служит только для меня, но не для читателя. Убедить же последнего может либо доказательность аргументации, изложенной в заключительных главах, либо те результаты, которые он, в соответствии с моей теорией, получит, если проведет эксперимент на самом себе.
Лично мне охота за образами показалась захватывающим и даже волнующим занятием. Однако это была совершенно новая спортивная игра, и я не избежал ни одного промаха, свойственного новичку. Я не только после пробуждения оттягивал на полминуты или больше момент припоминания сновидений, но и недооценивал важность деталей при их записи. Случаи, которые на самом деле требовали 50 слов, я записывал в 2—3 словах. В итоге я мало что мог соотнести с прошлым или будущим, хотя сны давали мне много намеков на будущие события. Так было, например, с каскадом искр, о котором я рассказывал в предыдущей главе, и еще в пяти случаях, когда соответствия представлялись чуть менее очевидными. Я полностью записал лишь один приснившийся образ, но соответствующее событие произошло четыре года спустя, что не укладывалось в установленные мной сроки. В целом только на одиннадцатый день эксперимента я получил ожидаемый четкий, убедительный результат.
После полудня я охотился на пересеченной местности, несколько смутно представляя себе границы территории, в пределах которых мне разрешалось пе-
[78]
редвигаться. Вскоре я подошел к участку, где, по моим расчетам, я не имел права находиться. Едва переступив его, я услышал голоса двух мужчин, с разных сторон кричавших мне что-то. Мне даже почудилось, что они натравливали на меня озверело лающую собаку. Я устремился к ближайшему проходу в пограничном заграждении, стараясь делать вид, будто ничего необычного не случилось. Крики и лай становились все слышнее. Я ускорил шаг и проскользнул через проход раньше, чем показались преследователи. Для человека чувствительного инцидент, согласитесь, весьма неприятный и вполне претендующий на то, чтобы возникнуть в каком-нибудь сне.
Вечером того же дня перечитывая свои записи, я поначалу ничего не заметил. Я уже собирался закрыть блокнот, как вдруг мой взгляд упал на слова, бледно обозначенные в самом конце листа:
«Преследовали двое мужчин и собака».
Любопытная вещь: я абсолютно забыл о том, что видел подобный сон. Я даже не помнил, что записал его.
12-й день не дал никаких соответствий, но 13-й увенчался великолепным результатом.
В тот день я читал роман, один из персонажей которого прятался на большом потайном чердаке старинного дома. По ходу действия ему пришлось бежать через дымовую трубу. А накануне ночью мне снилось, будто я обнаружил огромный, загадочный, потайной чердак и с интересом начал исследовать его; однако вскоре стало ясно, что мне лучше покинуть дом, и я решил воспользоваться чердаком.
14-й день ознаменовался четырьмя случаями, помеченными знаком «+».
Чистый результат двухнедельного эксперимента
[79]
был таков: два убедительных примера моего «феномена» и шесть менее убедительных — если рассматривать их по отдельности — примеров, которые, впрочем, едва ли можно объяснить простым совпадением, учитывая их количество. Но самое важное следствие — понимание того факта, что ни один из этих примеров не был бы подмечен, если бы я не вспомнил и не записал сновидения, а затем после свершения реальных событий не просматривал свои записи.
* * *
Итак, эксперимент частично подтвердил теорию о том, что мой «феномен» — всего-навсего нормальное, хотя и ускользающее от поверхностного наблюдения, свойство человеческого отношения ко времени. А согласно этой теории, не только я, но и любой другой человек может в ходе эксперимента наблюдать указанный «феномен». Значит, я должен убедить кого-нибудь подвергнуть себя аналогичному испытанию.
Сделать это милостиво согласилась одна молодая особа (назовем ее мисс Б.). Я выбрал ее главным образом потому, что она была до крайности нормальным человеком: она не имела никакого «психического» опыта и верила, что никогда не видит снов. Мисс Б., разумеется, убеждала меня, что совершенно не годится для эксперимента, поскольку за всю свою жизнь ей снилось от силы 6 или 7 снов.
Наутро после первой ночи эксперимента она подошла ко мне и заявила, что наша затея безнадежна. Сразу после пробуждения мисс Б. пыталась припомнить свои сны, но безрезультатно. Я посоветовал ей не беспокоиться и постараться сначала воскресить в па-
[80]
мяти то, что она думала в момент пробуждения, а затем вспомнить, почему она думала именно об этом. Как я и предполагал, прием сработал; и каждый из последующих шести дней мисс Б. удавалось припомнить какой-нибудь коротенький сон.
На шестой день эксперимента — если вести подсчет от той ночи, когда она увидела «первый» сон, — она получила следующий результат.
Однажды, прогуливаясь в ожидании поезда до станции «Плимут», мисс Б. оказалась у конца платформы. Там она наткнулась на ворота, запертые на 5 или 6 засовов и ведущие к дороге. Как только она приблизилась к воротам, по другой стороне прошел какой-то мужчина, погоняя трех бурых коров, причем кнут он держал как-то по-особенному — словно это была удочка.
Во сне ей привиделось, будто она идет по знакомой ей тропинке и к своему великому удивлению обнаруживает, что тропинка упирается в запертые на 5 или 6 засовов ворота, которые взялись неизвестно откуда. Ворота в точности напоминали пристанционные, и когда она приблизилась к ним, по другой стороне прошел мужчина. Он погонял трех бурых коров и держал в руках кнут на манер удочки. Во сне эта процессия двигалась в том же порядке, что и наяву.
Этот сон приснился мисс Б. утром накануне реального события.
Сплавление «прошлого» образа знакомой тропинки с «будущим» образом ворот дает нам прекрасный пример «интеграции».
[81]
* * *
Затем я попросил провести аналогичный эксперимент свою кузину мисс С. Она также не имела подобного рода опыта и полагала, что сны снятся ей крайне редко. Однако в ходе эксперимента она великолепно припоминала забытые сны и подмечала детали, хотя поначалу ей с трудом удавалось находить связь сновидений с реальными событиями, включая и те, что происходили в прошлом. Например, она никак не могла понять, каким образом сон о прогулке по крыше может быть связан с эпизодом следующего дня, когда мы вместе взбирались на крышу бунгало. Между тем она, по ее словам, уже много лет не поднималась ни на какие крыши. И все же на восьмой день она получила следующее убедительное доказательство.
Когда мисс С. приехала в загородную гостиницу, ее сразу предупредили о проживающей там странной и подозрительной особе, которую все постояльцы принимали за немку. (Случай этот, надо сказать, произошел в конце войны.) Вскоре она и сама встретила эту особу в саду, примыкавшем к гостинице. Сад был необычным — очень большим, с множеством огромных деревьев редких пород. Человек, не знающий, что сад принадлежит гостинице, вполне мог бы принять его за общественный парк. Предполагаемая «немка» была одета в черную юбку и черно-белую блузку в полоску, а ее волосы были собраны в пучок на макушке.
Ночью моей кузине приснилось, будто в общественном парке она встречает какую-то немку, одетую в черную юбку и черно-белую полосатую блузку и с собранными в пучок на макушке головы волосами. Моя кузина заподозрила в ней шпионку.
Этот сон приснился ей за два дня до реального со-
[82]
бытия. (Запись сновидения не была датирована никаким числом, но находилась в моих руках, когда произошло подтверждающее его событие.)
А еще раньше эксперимент, проводимый мисс С, дал другое, почти — но не совсем — убедительное доказательство: ей приснился сон об одном письменном известии, и вскоре она действительно получила от подруги письмо соответствующего содержания.
* * *
Затем попытала счастья миссис Л. и уже в первую ночь увидела великолепный сон. Он, однако, касался двух отдельных эпизодов, которые произошли на следующей неделе. Установленный нами двухдневный срок оказался превышен, но соответствие сна и яви было настолько очевидным, что здесь вступало в действие правило, позволяющее в исключительных случаях расширять временные границы.
Оба эпизода имели отношение к общественным собраниям в Корвене. Миссис Л. посетила одно из них и рассказала мне о том, что ее удивило множество священников, появившихся бог весть откуда и заполнивших буквально все здание, хотя до начала собрания не происходило ничего, что могло бы интересовать церковь.
На другом собрании присутствовала моя сестра, которая потом поделилась с миссис Л. своими впечатлениями. Просунув голову в дверь, она, по ее словам, застала очередной пандемониум в самом разгаре. Она уже готова была осторожно ретироваться, когда председатель, заприметивший ее, закричал: «Входите, мисс Данн, и посмотрите, как. мы, валлийцы, сражаемся!»
[83]
Во сне миссис Л. увидела себя на общественном собрании. Она была крайне раздражена выходками какого-то священника, находившегося среди присутствующих и мешавшего своими настойчивыми требованиями прочесть нечто вроде проповеди и завершить ее молитвой. Миссис Л. запротестовала. Священник откинулся в кресле так, что задел ее. Между тем другой мужчина толкнул ее в руку. Тогда она поднялась и, ударив кулаком по столу, воскликнула: «Кто несет ответственность за поведение собравшихся? Мне известно, что валлийцы славятся своими дурными манерами, но здесь я не допущу этого!»
Записав свой сон, миссис Л. совершенно забыла о нем и даже не удосужилась перечитать свои записи на второй день. Поэтому когда произошли оба реальных события, она и не вспомнила о сновидении. Только по чистой случайности я, просматривая ее записи, нашел этот сон.
* * *
Следующим согласился на эксперимент майор Ф. Он взялся за дело с большим интересом. Добиться успеха в такого рода занятии, говорил он, все равно что заранее определить победителя в дерби. Однако по окончании эксперимента он убедился в моей абсолютной правоте и, боюсь, еще в том, что сновидящее сознание недостаточно хорошо понимает свою работу.
Майор Ф. — довольно известный художник-маринист. На второй день эксперимента он отправился на взморье, чтобы зарисовать две лодки, которые он не так давно заприметил на берегу. Прийдя на место, он увидел, что одну из лодок перекрасили в яркие — крас-
[84]
ный и синий — цвета, характерные для спасательных шлюпок. Но он все же сделал зарисовку, что, разумеется, заставило его долго и пристально созерцать саму лодку и ее раскраску. Судно лежало на невысоком зеленом дерне, а в отдалении на пирсе, который тоже попал на холст, находилось нечто вроде лодки — удлиненное, красное, посередине покрытое какой-то материей.
Во сне, приснившемся майору Ф. накануне ночью, фигурировал образ красно-голубой спасательной шлюпки, лежавшей на зеленом дерне и посередине покрытой рыболовной сетью.
Сначала майор Ф. не мог уловить никакой связи между сном и явью. Он полагал, что сходство должно распространяться и на другие детали сновидения, и был разочарован. Тем не менее он продолжил эксперимент.
На следующий день шел проливной дождь, и мы оправились на поиски какого-нибудь укрытия, где можно было бы заняться рисованием. Мы нашли небольшой дом, строительство которого еще не завершилось. Поскольку окна нижнего этажа слишком ограничивали поле зрения, мы приставили лестницу к поперечным балкам недостроенного верхнего этажа и влезли на них. Лестница оказалась необычной — с квадратными ступенями.
А накануне ночью майору Ф. приснилось, будто он взбирается по лестнице, которая, казалось, вовсе не опирается на стену. Он поднимался, так сказать, в небо. И это была лестница с квадратными ступенями.
Между тем майор Ф. лет шесть не поднимался ни по каким приставным лестницам.
Но окончательно убедил его совсем другой случай. Ему приснилось, будто он вместе с маленьким мальчиком, своим подопечным, пускает игрушечный кораб-
[85]
лик, причем ребенок получил от него это судно в подарок (как и было на самом деле). Вскоре он опять увидел во сне подобный корабль — но на этот раз в полную величину, без мачт, с лежащими на воде парусами. Экипаж корабля мыл их. А еще через несколько дней майор Ф. узнал, что его маленького друга отвезли к пруду пускать подаренный кораблик. Но вместо этого ребенок попросил снять паруса и, положив их на воду, начал их чистить.
Майор Ф. пришел к выводу, что взятые вместе три эпизода достаточно убедительны.
* * *
Незадолго до описанных выше событий мой брат написал мне о том, что он «получил» информацию о кончине после войны бельгийского героя генерала Лемана, а наутро, раскрыв за завтраком газету, прочел сообщение, подтверждающее его сновидение.
Моя сестра также получила удовлетворительное доказательство, не проводя никаких экспериментов. (И она, и мой брат потом, разумеется, стали отслеживать «феномен».) Ее пример, однако, касался той области науки, где имя «Битон» затмевает имя «Ньютон». Здесь, признаюсь, я не специалист и, смиряясь, готов положиться на ее утверждение, что в данном случае соответствие между сном и явью достаточно очевидно, чтобы полностью исключить простое совпадение.
[86]
Теперь ситуация начала немного проясняться. Я установил, что «феномен» обнаруживается только при целенаправленном наблюдении и именно по этой причине он не привлекал внимания людей. Однако грубый метод, изобретенный мной для восприятия «феномена», похоже, сработал. Первоначальная гипотеза о моей исключительной ненормальности была полностью отвергнута. Кроме того, эксперимент доказал, что я, по-видимому, даже не обладаю какой-то особенно развитой способностью к наблюдению «феномена». Другие люди не только добивались убедительных результатов быстрее меня; в большинстве случаев их примеры были гораздо нагляднее.
Результаты экспериментов позволяли предположить, что количество людей, способных воспринимать «феномен», настолько велико, что, по крайней мере, делает абсурдной всякую мысль о групповой ненормальности, ибо коллективная ненормальность — явное противоречие. К тому же практически у каждого из нас порой возникает странное ощущение, будто происходящее в данный конкретный момент «уже происходило», и очень многие люди способны неожиданно припомнить, казалось бы, забытый сон только по той (и ни по какой иной) причине, что реальное событие намекнуло им о нем (то есть обнаружило свою ассоциативную связь с ним). Приняв во внимание вышесказанное, становится абсолютно ясно, что если кому и свойственна ненормальность, то, вероятно, тем людям — если, конечно, таковые вообще имеются, — чей ум противится наблюдению «феномена». Однако соответствующие статистические данные можно
[87]
получить только при проведении широкомасштабных экспериментов после публикации книги.
Как бы то ни было, объяснение «феномена» по-прежнему оставалось загадкой.
Трудность заключалась в его предельной конкретности. Он не принадлежал к тому разряду явлений, которые в силу своей непределенности охватываются каким-нибудь одним сметающим все различия обобщением (например, теорией относительности или теорией двухмерного времени). Напротив, он изобиловал особенностями. Он то и дело давал подсказки, словно маяки, высвечивавшие полдюжину решений
— по большей части противоречивых. Легко было придумать объяснение отдельным фактам, но трудно
— всеобъемлющее объяснение.
Я вновь начал проводить на себе эксперимент в надежде получить дополнительные данные, а говоря точнее, с целью выяснить, имеются ли какие-либо доступные наблюдению различия между образами, относящимися к будущему, и образами, относящимися к прошлому. В результате оказалось, что даже при самом тщательном наблюдении невозможно заметить такого рода отличительные черты.
Однако в ходе эксперимента мне приснилось три особенно впечатляющих сна, которые лучше вкратце описать.
Первый из них служит ярким примером ассоциативной цепи, протянувшейся из «прошлого» в «будущее». Связующим звеном стал образ пролитых чернил. Он фигурировал сразу в двух реальных эпизодах.
Реальное событие (1) перед сновидением. Наблюдая за своим другом, заправлявшим на столе авторучку, я думал о том, что он прольет чернила.
Реальное событие (2) после сновидения. Я читал
[88]
французский детектив. Сыщик против обыкновения казался крайне некомпетентным, и с приближением сюжета к развязке я начал спрашивать себя, когда же, наконец, он обнаружит хоть какой-нибудь признак мастерства, чтобы оправдать доверие читателей.
И вот в момент denouement он, намеренно споткнувшись, пролил чернила на стол, за которым сидел негодяй. Тот в страхе запачкать одежду отпрянул назад, вскинув вверх руки. Сыщик тут же схватил его за руку. обмакнул его ладонь в чернила и прижал ее к листу промокательной бумаги, заполучив таким образом отпечатки пальцев. Затем с торжествующим видом он изобличил преступника.
Сновидение между двумя реальными событиями. Знаменитый сыщик вознамерился продемонстрировать нам свое мастерство. Мы ждали уже довольно долго, а он все не спешил развеять иллюзию своей некомпетентности. Затем он притворно споткнулся и чернилами из авторучки облил преступника, которого затем торжественно изобличил.
Второй сон также дает пример ассоциативной цепи, но на этот раз связующее звено — охота с револьвером на опасного зверя — проступило еще рельефнее.
Реальное событие (1) перед сновидением. Я рассматривал картины, запечатлевшие львиную охоту. В то время мой брат намеревался присоединиться к экспедиции охотников, и я стал думать о том, какое огнестрельное оружие ему следовало бы взять с собой. Размышляя о достоинствах и недостатках различных видов оружия, я вспомнил об огромном семизарядном револьвере, который я видел в одном из оружейных магазинов Парижа. Считалось, что именно такого рода устройство должно быть неотъемлемой частью снаряжения современного охотника на львов. Я немного
[89]
позабавился, представляя, каково охотиться на львов, имея такой револьвер.
Реальное событие (2) после сновидения. Читал книгу Ethel Sidgwick «Hatchways». В двух главах рассказывалось о леопарде, убежавшем из зверинца. Леопард появился в окрестностях загородного дома, где школьники устроили нечто вроде пикника, и задрал козу. По ходу сюжета главного героя спасает из лап хищника удалившийся от дел геологоразведчик: он подоспел как раз вовремя и двумя выстрелами из одолженного у кого-то револьвер убил зверя.
Сновидение между двумя реальными событиями. Из окна загородного дома я увидел голову и гриву мчавшегося по полю льва. В округе поговаривали, будто он сбежал из зверинца и задрал козу. Мне стало интересно узнать, смогу ли я из окна убить зверя с помощью револьвера. Но расстояние было слишком большим. Тогда я решил залечь вдоль дороги, ведущей через поле и ждать, пока зверь не пробежит мимо. Однако потом мне показалось, что следует вооружиться чем-нибудь получше револьвера, и я вышел из дома в надежде раздобыть ружье.
Третий пример дал архетип «интеграции», компоненты которой относились к впечатлениям, полученным до и после сновидения.
Реальное событие (1) до сновидения. В саду, прилегающем к гостинице, где я находился, я увидел дно — без бортов — старой маленькой плоскодонки.
Реальное событие (2) после сновидения. Моя сестра уговорила меня пойти с ней на одну из выставок мотоциклов «Олимпия». Ей хотелось знать мое мнение по поводу понравившегося ей небольшого скутера. Эта изящная вещица под названием «Юнибус» совершенно не походила на другие демонстрировавшиеся скуте-
[90]
ры, так как была сконструирована по принципу легкового автомобиля и имела вал, коробку передач и прочие соответствующие приспособления, а также маленькое сиденье необычной формы (во всех скутерах, которые мы видели до этого, человеку приходилось стоять на платформе), снабженное щитом для прикрытия дамского платья. Я указал своей сестре на преимущества последней детали и добавил, что на обычном скутере ее ботинки насквозь промокнут и запачкаются грязью. Когда я делился с ней своими соображениями, у меня на мгновенье возникло давно знакомое мне странное ощущение: это уже когда-то было. Отлично понимая, что оно означает, я принялся за работу и вскоре вспомнил забытый образ. Он относился к сновидению, которое я, к счастью, записал. Вернувшись домой, я просмотрел свои записи и выяснил, что сделал их два года назад.
Сновидение между двумя реальными событиями. Мне приснилось, будто моя сестра едет по улице в очень необычном миниатюрном автомобиле. (Я зарисовал его — то была точная копия «Юнибуса», но без щита.) Я кричу ей что-то насчет опасности промочить ботинки и замечаю, что уровень воды на дороге достиг низкой овальной платформы автомобиля.
Судя по записям, платформа представляла собой кусок плоскодонки, которую я видел дней 9— 10 назад.
Раз уж мы перешли к теме связи между сновидениями и реальными событиями, разделенными большими промежутками времени, стоит поведать о самом удивительном случае, когда оказалось, что сновидение и реальное событие разделяет около 20 лет.
Реальное событие (1) до сновидения. В возрасте 12—14 лет я с огромным интересом прочел книгу Жюля Верна «Небесный корабль». Те, кто знаком с ней, вероят-
[91]
но, помнят иллюстрации к придуманному автором летающему аппарату. На них был изображен длинный темный корпус, по размерам и форме напоминающий современный «Дестройер», но в отличие от последнего он имел таранный нос. Эта штуковина, словно по ошибке вынырнувшая из воды и взмывшая в небо, поддерживалась лишь крошечными воздушными винтами, укрепленными на тонких металлических мачтах. Крыльев или чего-либо подобного у аппарата не было.
Реальное событие (2) после сновидения. Лет 20 спустя, в 1910 г., я совершал свой первый решающий полет на первом аэроплане, обладавшем полной собственной устойчивостью*.
Событие было волнующим. Машина слишком быстро оторвалась от земли, подпрыгнула и, когда я наконец пришел в себя, с ревом равномерно начала набирать высоту уже за пределами аэродрома. Я предоставил машину самой себе; и так мы летели до тех пор, пока двигатель не заглох (в те времена на это уходило три минуты). Ощущение было в высшей степени необычным. Машина, подобно всем другим выполненным по моим проектам, не имела хвоста и по форме напоминала — если смотреть снизу — широкий наконечник, но без древка. Она двигалась острием вперед, а к острию было прикреплено нечто вроде открытого (беспалубного) челнока, сделанного из белой парусины, натянутой на легкий деревянный каркас. Я праздно сидел в машине и с высоты 300 футов обозревал резвящиеся внизу стада. Основная часть аэроплана находилась вне поля моего зрения, так что казалось, будто я лечу в открытом челноке через пустоту.
* До этого г-ну Л. Гиббсу уже удалось заставить взлететь аналогичный летательный аппарат, сконструированный по моему проекту; однако пролетел он всего лишь несколько ярдов.
[92]
Сновидение между двумя реальными событиями. Через несколько дней после того, как я, еще будучи ребенком, прочел книгу Жюля Верна, мне приснилось, что я изобрел летательный аппарат и летал на нем. Надо отметить, что тогда я и не представлял себе иного летательного аппарата, кроме огромного металлического «небесного корабля», поддерживаемого воздушными винтами. Однако, в приснившемся мне сне я сидел в маленькой открытой лодке, сделанной из какой-то беловатой материи, прикрепленной к деревянному каркасу.
Здесь, по-видимому, следует оговориться, что характерный для биплана «Данн» лодкообразный дирижабль появился не из-за смутного воспоминания об этом сне. Мои ранние летательные аппараты не имели подобного устройства. Оно было результатом дальнейших раздумий и предназначалось для уменьшения «лобового сопротивления», поскольку считалось, что именно в этом месте сопротивление оказывает отрицательное воздействие на стабильность аппарата.
О приснившемся мне в детстве сне я никогда не забывал и не без забавы вспомнил о нем в 1901 г., когда, получив отпуск по болезни, я всерьез занялся изобретением приспособления, которое было бы «тяжелее воздуха» и помогло бы решить важную военную проблему — проблему разведки. Но так как сон казался мне вполне естественным для маленького мальчика, я тогда не придал никакого значения внешнему облику приснившегося аппарата, подтверждением чему служит тот факт, что соответствующее конструкторское решение было найдено только десять лет спустя. И я отогнал от себя мысль о сновидении как несущественную. Лишь недавно я осознал, что подтверждающая деталь — маленькая, белая, открытая лодка — дает основания считать сон предвосхищением будущего события.
[93]
* * *
Если внимание сновидца странствует по ассоциативной сети, полностью игнорируя «настоящее», то неудивительно, что оно неожиданно наталкивается на какой-нибудь образ, отстоящий от нас на много лет «вперед». Действительно, именно этого и следовало бы ожидать, поскольку в своем «обратном движении» внимание часто натыкается на образы, отстоящие от нас на много лет «назад».
Однако, когда речь заходит о количественном соотношении образов из прошлого и образов из будущего в определенном ряду сновидений, легко попасть впросак. Ибо образы, относящиеся к событиям, которые отодвинуты от нас далеко «назад», можно опознать и подсчитать, тогда как образы, относящиеся к событиям, которые отодвинуты от нас на такое же расстояние «вперед», не поддаются идентификации. Поэтому единственный способ подвести итог — ограничиться при подсчетах несколькими днями в обоих направлениях. Следует исключить из подсчетов такие образы (неважно, касаются ли они будущего или прошлого), как образы друзей и бытовых сцен. А образы, предположительно относящиеся к прошлому, необходимо подвергнуть столь же тщательному изучению, как и образы, предположительно относящиеся к будущему. Тогда совпадения в обоих направлениях приобретут одинаковую весомость.
Ведя подсчеты описанным выше способом, я обнаружил, что количество образов, неоспоримо относящихся к ближайшему будущему, практически равно количеству образов, столь же неоспоримо относящихся к недавнему прошлому.
[94]
Но почему только в сновидениях? Вот вопрос, тормозивший продвижение вперед. Если предположить, что время сводится к чему-то, находящемуся исключительно в «настоящем», то пред-образы должны быть доступны человеку для наблюдения как во сне, так и наяву. Почему же только во сне?
Стыдно признаться, сколько времени прошло, прежде чем я понял, что, формулируя этот вопрос, я считал его уже решенным. Осознав это, я тут же приступил к эксперименту.
Немного поразмыслив, я решил, что для проведения «эксперимента наяву» проще всего взять книгу, которую собираешься прочесть через несколько минут, сосредоточенно подумать о ее названии — оно даст вам начальную идею, имеющую связь с содержанием книги, — и подождать, пока благодаря простой ассоциации не появятся обрывки образов.
Вы, замечу, можете сэкономить массу времени, если сразу отбросите все образы, относящиеся, по вашему убеждению, к прошлому. Кроме того, вы можете в большей степени полагаться на свою память об образах, если они явились вам не во сне, а тогда, когда вы пребывали в состоянии бодрствования и бдительности. Тем самым вам не придется утруждать себя пространными записями — достаточно будет краткой заметки о каждом образе.
Мой первый эксперимент давал великолепные результаты до тех пор, пока я не обнаружил, что прежде уже читал выбранную для опыта книгу.
Однако он оказался поучительным, ибо демонстрировал ту неимоверную трудность, с которой бодрст-
[95]
вующее сознание освобождается от воспоминаний. Тогда большая часть времени ушла у меня на то, чтобы отбросить образы прошлого и начать эксперимент заново, в некоторой степени уже очистив свой ум.
Помимо образов, относящихся к книге (давно прочитанной), у меня возникло только несколько идей, в основном связанных с Лондоном и внешним и внутренним убранством клубов. Единственным исключением было слово «woodknife» {«деревянный нож»), пришедшее мне на ум неизвестно откуда. После некоторых размышлений я убедился, что мне ни разу в жизни не встречалось подобное слово; и я записал его.
Через два или три дня я неожиданно отправился в Лондон, где посетил свой клуб. За неимением каких-либо более интересных дел, я зашел в библиотеку, взял недавно опубликованный роман и попытался провести второй эксперимент, но безрезультатно. За 15 минут мне удалось отследить только восемь образов, которые принадлежали к «прошлой» половине ассоциативной сети. Один из них касался охоты на кенгуру в Австралии — всадники и собаки в суматохе преследуют скачущее животное. Другой образ содержал одно-единственное слово — «нарвал». Не обнаружив в книге никаких соответствий, я вскоре отбросил ее в сторону.
Затем я проследовал в небольшую внутреннюю библиотеку — идеальное место для того, чтобы вздремнуть. Я устроился в удобном кресле и вооружился томиком R.F. Benton'a под названием «Book of the Sword», открыв его на середине и сделав вид, будто читаю.
Мой взор мгновенно упал на миниатюрное изображение старинного кинжала. Под картинкой стояла надпись «Нож (дерево)» «Knife (wood)». Это меня заин-
[96]
тересовало, и я начал было листать книгу, но через минуту вернулся на страницу 11. Там я наткнулся на упоминание о роге нарвала. Продолжив чтение, я увидел на следующей странице слова: «"Дружище кенгуру" длинным когтем мощной задней ноги вспорол живот не одному верному псу».
Эта попытка не дала никаких убедительных доказательств, однако в ней было нечто, будоражащее мысль — такое ощущение возникает, когда ожидаешь решающего результата при проведении «экспериментов во сне». Это вдохновило меня на продолжение эксперимента.
Я взял книгу баронессы von Hutten «Julia». Я исписал четверть листа почтовой бумаги, и подходящими оказались всего два слова «розовый дом»; в книге тоже упоминались «розовые дома» (не слишком удачная попытка).
Следующей стала книга Amold'a Bennett'a «Riceyman Steps». Мне пришло в голову лишь несколько идей, уместившихся в трех строчках. В частности, я записал «Я уполномочен заявить». Раскрыв книгу, я прямо в первом абзаце нашел слова: «Сам он был явно уполномочен заявить».
Затем я обратился к книге Mason'a «House of the Arrow». На этот раз я решил изменить порядок проведения эксперимента. Я заглянул в самое начало книги и отыскал имя одного из персонажей. Мне казалось, что по сравнению с названием книги имя героя, которое, вероятно, будет упоминаться в тесной связи со многими эпизодами сюжета, — более подходящее ассоциативное звено.
Не знаю, знаком ли читатель с указанной книгой. Если нет, то мне очень не хотелось бы лишить его возможности сполна насладиться первоклассным детек-
[97]
тивом. Поэтому здесь я лишь отмечу, что узловым моментом всей интриги, стержнем сюжета являются часы, показывающие половину одиннадцатого, причем эта деталь всплывает только в середине повествования.
Персонаж, имя которого я выбрал в качестве ассоциативного звена, постоянно сопровождал сыщика в ходе расследования. Когда я сосредоточился на этом персонаже, первым образом, возникшем у меня в уме и зафиксированным на бумаге, стал образ часов, показывающих половину одиннадцатого.
Во время эксперимента с книгой лорда Dunsany «The King of Elfland's Daughter» я записал: «Высокие хрустальные скалы глядятся в темное море. Над морем танцуют светляки». Неплохое описание ночного пейзажа, изображенного автором в книге. Там говорилось о высоких хрустальных скалах, глядящих вниз, на окутанную туманом равнину, над которой в замысловатом танце движутся огни страны эльфов.
Затем я выбрал книгу Snaith'a, взяв в качестве ассоциативного звена имя героини. На этот раз меня постигла неудача. Однако в середине эксперимента у меня возник очень странный образ — зонт с совершенно гладкой, прямой, тонкой ручкой, служившей простым продолжением основного стержня и по форме и размерам напоминавшей наконечник зонта. Этот зонт в сложенном виде стоял без всякой поддержки на тротуаре близ отеля «Пикадилли», повернутый наконечником вверх и ручкой вниз.
На следующий день я проезжал мимо этого места на автобусе. Мы уже приближались к отелю, когда мой взгляд упал на весьма эксцентричного вида особу, шагавшую в направлении движения автобуса по тротуару со стороны отеля. На пожилой даме было надето причудливое черное платье ранневикторианской эпо-
[98]
хи и шляпка с полями. Она держала зонтик, тонкая, гладкая, неполированная ручка которого служила простым продолжением основного стержня и по форме и размерам напоминала наконечник. Она использовала зонт — в сложенном виде, разумеется — в качестве трости, сжимая его в руке так, как паломник сжимает свой посох. Но зонт был перевернут. Она держала его за наконечник, а ручкой постукивала по тротуару.
Не стоит и говорить о том, что прежде я никогда не встречал человека, который использовал бы зонт подобным образом.
* * *
Эти эксперименты показали, что, умея устойчиво и прочно удерживать внимание на поставленной цели, человек может с одинаковой легкостью наблюдать «феномен» и во сне и наяву. Однако удерживать внимание не простое дело. Конечно, для этого не нужно обладать каким-то необычным даром. Но совершенно необходимо научиться — путем долгих тренировок — контролировать свое воображение. Поэтому желающим просто удостовериться в существовании «феномена» я порекомендовал бы проводить эксперимент на основе записей о сновидениях, а не образов бодрствующего сознания.
Однако в плане изучения проблемы «эксперимент наяву» имеет особую ценность, поскольку позволяет человеку наблюдать многое из того, что делает его сознание. Да и сюжеты сновидений не обременяют экспериментатора.
Сам я приступил к подобного рода эксперименту прежде всего с целью обнаружить барьер (если таковой
[99]
имеется), отделяющий наше знание о прошлом от нашего знания о будущем. И — удивительная вещь! — оказалось, что такого барьера, по-видимому, вообще не существует. Нам нужно просто пресечь любые явные мысли о прошлом — и тогда отдельными вспышками начнет проступать будущее. (Ибо именно к этому в конечном счете приведет вас эксперимент, каким бы трудным и мучительным он ни был.) Когда кто-нибудь пытался проследить «цепочку воспоминаний» из прошлого в будущее, он натыкался не на задерживающий барьер, а на абсолютную пустоту. Более того, я открыл (с помощью отдельного эксперимента), что, позволяя вниманию перемещаться от одного образа к другому, явно с ним связанному, остаешься, так сказать, в «прошлой» половине сети. Внимание там, словно в своей епархии. Ассоциативно связанные между собой образы легко и быстро сменяют друг друга; а внимание скользит без всякого видимого усилия или усталости.
Только отвергнув явные ассоциации с предыдущим образом и дождавшись момента, когда их место займет нечто, явно с ними не связанное, внимание получает возможность преодолеть разделительную черту.
[100]
Мне осталось описать еще один сон. Он не дает неопровержимого доказательства, но сила его убедительности настолько велика, что он заслуживает серьезного рассмотрения. Если сон, размышлял я, действительно относится к будущему, то он не укладывается в рамки гипотезы, которой я придерживался в то время. Это побудило меня отказаться от нее и вернуться к моей прежней теории, что принесло мне удачу.
Сон приснился мне ночью, а утром, одеваясь, я занимался тем, что отслеживал длинную цепочку воспоминаний о школьных годах. Строго логическая последовательность событий привела меня к эпизоду с осой. В детстве я страшно боялся этих насекомых, и находиться в комнате вместе с хотя бы одним представителем их рода было для меня сущим мучением. Теперь вообразите тот ужас, который я испытал, когда в комнату, где я обедал, через открытое окно влетела огромная оса. Опустившись мне на шею, она начала медленно ползти за мой итонский воротничок. Я сидел, побелев как полотно, а учитель умолял меня не двигаться, что, впрочем, было совершенно излишне. Я до сих пор помню жуткое ощущение от мягких, легких передвижений насекомого. И вот 44 года спустя я, подведенный цепочкой мыслей к тому давнему эпизоду, вновь попытался припомнить ощущение от прикосновения лапок ползущей осы. В этот момент я причесывался; и как только я провел расческой по определенному месту на макушке головы, ночной сон тотчас всплыл в моем сознании. Во сне у меня возникло ощущение, будто что-то запуталось в моих волосах в указанном выше месте на макушке головы. Я был
[101]
убежден, что там ползала оса, и позвал своего приятеля, чтобы тот выташил ее.
Итак, если рассматривать этот сон как предвосхищение будущего, иначе говоря, как еще один пример «феномена», то необходимо принять во внимание следующие факты.
Одновременное представление сознанию чувственного впечатления — прикосновения расчески к голове — и запечатленного в памяти образа — ощущения от прикосновения лапок осы — служит достаточно наглядным примером ассоциации по смежности. Но перед тем, как эта ассоциация образовалась, она прел-стала в сновидении в форме интеграции.
Любопытное смешение событий!
Пока мы не начали искать объяснение, хорошо бы бросить беглый взгляд на то, что же именно мы должны объяснить.
Прежде всего, разумеется, сам «феномен» — явное нарушение временной последовательности представлений. Имеющаяся последовательность (в том виде, в каком она могла бы быть зафиксирована в дневнике) такова:
а' — пред-представление явления А
а» — повторное представление (воспоминание) явления а'
А — явление*
а — повторное представление явления А
Если признать выводы, сделанные на основании сна, описанного в предыдущей главе, дело еше больше осложняется: создается впечатление, будто А в приведенной выше схеме может быть любой совокупностью представлений. Далее необходимо учитывать слелующее.
После того как экспериментатор наблюдал образ будущего события, он берет карандаш и бумагу и записывает или лаже зарисовывает летали наблюдавшегося им пред-образа. Тем самым он совершает конкретный физический акт. Но если бы он не наблюдал пред-образа, этот акт никогда не был бы совершен. Иначе говоря, экспериментатор вмешивается в определенную после-
* Ввиду различия способов связи между существенными в английском языке (с помощью предлога; в данном случае «of») и русском языке (с помошью падежей) и для упрощения восприятия фразы целесообразно использовать слово «явление» (вместо «представления»), тем более, что в оба термина вкладывается один смысл (см. главу IV, определение «представлений». — Прим. пер.).
[103]
довательность механических событий, которую мы принимаем без доказательств как спинной хребет «наделенный сознанием автомата» или материалистических теорий. Это открытое «вмешательство». И оно влечет за собой ряд проблем. Будущие события в любом случае достаточны реальны, чтобы мы могли пережить их в качестве пред-представлений; однако поскольку наблюдатель, как мы только что показали, способен благодаря пред-наблюдению изменить порядок своих действий, теоретически возможно предотвратить наступление этих событий. Тогда должны ли мы заявить, что они только частично реальны, иными словами, менее реальны, чем, скажем, прошлые события? Наше объяснение должно дать ответ и на этот вопрос.
Далее, способность наблюдателя вмешиваться в ход совершающихся в мозге событий ставит перед нами проблему свободы воли. Ее наше объяснение также должно удовлетворительно разрешить.
Наконец, очень существенно, что наше объяснение не противоречит уже известным в психологии и психофизике фактам. Некоторые из этих фактов значительно сужают для нас круг допустимых предположений. Мы не отрицаем психологический факт (он рассмотрен в главе XII), согласно которому «цепочка воспоминаний» не тянется в «будущее», но заканчивается в «настоящем». Что касается психофизики, то наши данные укладываются в рамки обычных доказательств в пользу параллелизма и, в частности, учитывают тот факт, что сотрясение мозга явно разрушает или парализует недавно сформированные воспоминания. Здесь проблема заключается в том, что затронуто нечто большее, чем просто «моторная привычка»: из сознания пациента, по-видимому, вычеркивается все связанное с непосредственно предшествующими сотрясению событиями.
[104]
Теория относительности признает «видение наперед» во времени в том смысле, что то, что есть будущее для Джонса, может быть настоящим для Брауна. Но она не допускает для Джонса возможности воспринимать событие его отдаленного будущего за 1 —2 дня до события его ближайшего будущего. Но именно это нас и интересует.
* * *
Не следует забывать, что материальные свидетельства (постольку, поскольку на них запечатлено свершившееся) служат знаками прошлого — и только прошлого. Рассматривая в какой-либо данный момент мишень и увидев в углу круглую пробитую дырочку, вы, вероятно, подумаете, что в этом месте прошла пуля. Однако нигде на поверхности мишени вы не найдете признака того, что вскоре, скажем, на расстоянии в полдюйма от центра яблочка появится другая дырочка. Разумеется, на основании полного знания обо всех механических движениях, которые происходят на этом клочке вселенной в момент обследования вами мишени, вы смогли бы определить, что вскоре в указанном месте пуля пробьет мишень, если бы вы, конечно, обладали высочайшим интеллектом. Но это допущение только сбивает с толку, ибо предполагает введение множества знаков внешних по отношению к исследуемому нами объекту, то есть мишени. Ее состояние в данный конкретный момент не позволяет нам заметить какие-либо признаки, намекающие на
[105]
будущую дырочку. В этом смысле мишень настолько неинформативна, что вы даже не станете разбираться, есть на ней повреждения или нет; этот вопрос никак не повлияет на ваши выводы. Мишень не содержит «свидетельств» о своем собственном будущем, и вам приходится пользоваться знаками, находящимися где угодно, только не на ее поверхности. Между тем простреленный угол мишени — свидетельство ее прошлой истории. И благодаря именно этому свидетельству, а не знанию о случившемся на данном клочке вселенной в некоторый предшествующий момент времени, вы сделаете заключение о пронзившей мишень пуле.
Дырочки в мишени служат знаками будущего в том смысле, что они указывают на возможные направления движения пуль и на события, которые, вероятно, произойдут вскоре позади мишени; но они не являются знаками будущих дырочек.
Наш мозг — материальный орган, и состояние его в любой данный конкретный момент не больше указывает на то, что внешний мир собирается представить мозгу в будущем, чем состояние мишени — на место, куда попадет следующая пуля или на то, попадет ли она вообще.
[106]
Высмеивать метафизику обывателя рискованно. Основополагающие идеи, увековеченные в народной речи, не могут быть полностью глупыми или неправомерными. Ибо такого рода канонизация должна, по меньшей мере, означать, что эти понятия выдержали проверку многими столетиями и — куда бы ни заносила их судьба — повсюду находили безоговорочное признание.
Скажем больше: обыватель в конечном счете — Homo sapiens и первооткрыватель времени. Ему — и только ему — наука обязана подобным взглядом на существование.
Его выводы относительно природы сделанного им открытия были, похоже, очень впечатляющи по своей конкретности, но несколько расплывчаты в смысле обобщений. Он вообразил, что развертывание событий во времени предполагает движение в четвертом измерении.
Термин «четвертое измерение», разумеется, придумал не он — его словарный запас едва ли позволил бы ему сделать это. Но он был твердо убежден в том, что:
1. Время имеет длину и делится на прошлое и будущее.
2. В длину время не простирается ни в одном из известных ему пространственных направлений: ни с севера на юг, ни с запада на восток, ни сверху вниз. Оно простирается в направлении, отличном от указанных трех, иначе говоря, в четвертом направлении.
3. Ни прошлое, ни будущее не доступны наблюдению. Все доступные наблюдению явления находятся в поле наблюдения, которое лежит в одном-единствен-
[107]
ном моменте длины времени — моменте, отделяющем прошлое от будущего. Этот момент он назвал «настоящее».
4. Это «настоящее» поле наблюдения движется по длине времени столь странным образом, что события, прежде относившиеся к будущему, становятся настоящими, а затем прошедшими. Прошлое тем самым постоянно нарастает. Это движение он назвал «течением» времени.
Теперь обратим внимание на одно обстоятельство — ниже мы рассмотрим его подробнее. При вдумчивом прочтении пункта 4 мы можем увидеть, что многие из употребленных там слов указывают не на временную протяженность, по которой, как предполагается, перемещается «настоящее» поле наблюдения, а на некое другое время. Вероятно, вам легче будет увидеть это, если мы еще раз процитируем пункт 4, выделив курсивом соответствующие слова.
4. Это «настоящее» поле наблюдения движется по длине времени столь странным образом, что события, прежде относившиеся к будущему, становятся настоящими, а затем прошедшими. Прошлое тем самым постоянно нарастает.
Ссылки на некое время, стоящее за временем, — закономерное следствие нашей первоначальной гипотезы о движении по длине времени, ибо движение во времени должно измеряться временем. Если движущийся элемент занимает сразу всю длину времени, значит он не движется вовсе. Но время, которым измеряется его движение, — другое время. А «течение» этого другого времени должно измеряться третьим временем и так далее до бесконечности*. И наш первоот-
* На это, разумеется, указывали и раньше как на фундаментальное выражение против ньютоновской мысли о времени, которое течет.
[108]
крыватель, крайне смутно различая эту бесконечную шеренгу времен, каждое из которых, так сказать, охватывает предыдущее, понятное дело, уклонился от дальнейшего анализа.
Однако он сохранил верность двум своим главным понятиям — длине времени и движению времени. А для передачи этих двух чрезвычайно полезных идей своим смышленым собратьям он обзавелся специальными выражениями. Он начал говорить о долгом и коротком времени (но никогда о широком или узком), об отдаленном прошлом и ближайшем будущем. Он отмечал: «Когда наступит завтра» и «Когда я достигну такого-то возраста». Пребывая в более поэтическом расположении духа, он заявлял, что время «пролетело», а годы «прошли»; он писал о «жизненном пути» и проживании «дня заднем».
Свое общее представление о времени он символически выразил различными способами — и, вероятно, наиболее исчерпывающим образом в записи фортепианной музыки. В нотных тетрадях измерение, тянущееся по странице сверху вниз, изображало пространство, а промежутки, отмеренные в этом направлении, — музыкальные ключи; тогда как измерение, тянущееся от одного края страницы к другому, изображало длину времени, а расстояния, отмеренные в этом направлении, — длительность нот и пауз между ними. Следовательно, страница представляла собой то, что сегодня мы назвали бы «пространственно-временным континуумом». Но на этом символизм не заканчивался. В довершение ко всему было условлено, что взгляд пианиста должен двигаться слева направо вдоль символического временного измерения, а написанные аккорды — браться тогда, когда эта движущаяся точка, изображающая движущееся «настоящее», достигает их.
[109]
В другом случае обыватель представил временное измерение окружностью, разметив ее на участки, обозначающие промежутки времени. Но одной окружности ему было недостаточно, чтобы поведать о своей концепции времени, поскольку в его схеме отсутствовало движущееся «настоящее». И тогда он добавил стрелку, изображавшую это «настоящее», и с помощью механизма привел ее в движение по символическому временному измерению. Теперь его хитроумное изобретение стало не просто символом, а работающей моделью времени. Это чрезвычайно полезное устройство он назвал часами.
Итак, часы без стрелок; нотный лист, показывающий, что все аккорды играются единовременным нажатием соответствующих клавиш, и концепция длины времени, согласно которой сразу все участки этой длины представлены протянувшемуся-на-семьдесят-лет наблюдателю, казались обывателю равноценными.
Он не задумывался специально и глубоко о том, что время имеет длину. Он обращался к понятию о длине времени в силу необходимости по вполне понятной причине. В нашем восприятии явления упорядочены двояким способом. Они либо просто отделены друг от друга в пространстве, либо последовательно сменяют друг друга. Это различие — данность: что бы мы ни делали и как бы мы ни думали, оно все равно существует. И, пытаясь объяснить эту последовательность явлений, мы неизбежно должны были предположить, что время имеет длину. Столь же неизбежно мы должны были рассматривать ее как длину, по которой происходит движение, как измерение, в котором мы движемся от секунды к секунде, от часа к часу, от года к году, сталкиваясь по пути с последовательно сменяющими
[110]
друг друга и разделенными во времени событиями — подобно тому, как мы сталкиваемся с различными объектами в нашем земном странствии. Таким образом, первоначальное представление должно было быть нерасчлененным. Для того чтобы понять, что обе его составляющие — длина времени и движение времени — обладают, взятые по отдельности, определенной аналитической ценностью, требовалась гораздо более развитая способность к мышлению.
Лишь сравнительно недавно кому-то из нас пришло в голову, что четвертое измерение, измышленное обывателем (хотя и не обозначенное им этим термином), по-видимому, есть «реальное» четвертое измерение. Д'Аламбер еще в 1754 г. написал о своем друге, придумавшем этот термин*. Однако самым ранним из печатных трактатов по данному вопросу, которые мне удалось отыскать, была монография С.Н. Hinton'a, озаглавленная «Что такое четвертое измерение?» и опубликованная в 1887 г.
Хинтон описывает небольшую идеальную систему линий, наклоненных в различных направлениях и соединенных с неподвижной рамкой. Если бы через рамку с прикрепленными к ней неподвижными наклонными линиями медленно опускалась вниз текучая плоскость, протянувшаяся перпендикулярно направлению движения, то «на плоскости появилось бы множество движущихся точек, причем их количество равнялось бы количеству прямых линий системы». Если теперь вместо линий представить трехмерные материальные нити, то движущиеся точки (поперечные сечения нитей) показались бы движущимися атомами материи воображаемому двухмерному обитателю текучей плоскости, который воспринимает ее в ка-
* Я бесконечно признателен г-ну Edwin'y Slosson'y за эту информацию.
[111]
честве единственно существующего пространства. Аналогичным образом можно было бы рассмотреть и систему четырехмерных материальных нитей, проходящих через трехмерное пространство. «Если бы мы допустили подобного рода мысль, мы должны были бы вообразить некое необъятное целое, внутри которого все, что когда-либо возникло или возникнет, сосуществует и, медленно проходя, оставляет в нашем зыбком сознании, ограниченном узким пространством и одним-единственным моментом, сумбурные свидетельства об изменениях, явленных только нам». (Курсив мой. — Т.И.)
Читателям, не привыкшим к визуализации геометрических фигур, описание Хинтона может показаться сложным. Поэтому имеет смысл выразить его мысль в упрощенной графической форме. Но прежде неплохо бы сказать несколько слов о самих графиках времени.
Измерение это не линия. Под ним следует понимать любое направление, в котором нечто может быть измерено и которое полностью отлично от всех других направлений. В геометрии это фундаментальное измеряемое нечто называется протяженностью; ему с чисто формальной точки зрения противополагается «ничто». Если мы начнем измерять протяженность в направлениях, полностью отличных друг от друга, мы обнаружим, что все они должны находиться перпендикулярно друг другу. Итак, взяв «север—юг» в качестве первого направления (измерения), мы вполне можем рассматривать «восток—запад» в качестве второго, поскольку мы можем отмерять расстояния в направлении «восток—запад», не имея при этом ни малейшей необходимости двигаться на север или юг. «Верх-низ» — третье направление, позволяющее нам проводить измерения, не посягая на два предыдущих. Если
[112]
время имеет длину, то есть протяженность, тогда оно дает нам четвертое направление, ибо мы можем проводить измерения во времени, не двигаясь при этом ни в одном из упомянутых выше измерений. Пятое направление... впрочем, у нас пока нет названий для прочих направлений. Теоретически может существовать бесконечное множество таких направлений, расположенных перпендикулярно друг другу. Математики считают, что их десять. Но мы не в состоянии зрительно представить более трех направлений одновременно, поскольку наше тело и мозг — устройства, функционирующие лишь в трех измерениях.
При вычерчивании графиков мы ограничены двумя измерениями листа: «верх—вниз», «право—лево». Однако при помощи их мы можем изобразить любые два измерения на выбор — например, четвертое и пятое или первое и гипотетическое сотое, ибо какие бы два измерения мы ни взяли, они, как и измерения листа, всегда будут располагаться относительно друг друга под прямым углом. Следовательно, мы можем сказать, что одно из измерений листа изображает время, а другое — пространство, и начертить графики, показывающие отношение реального времени к этому пространственному измерению. Ведь если время действительно протяженно (имеет длину), то график вполне можно поместить на плоскости, протянувшейся в двух направлениях: во времени и в пространстве.
Но как же быть с двумя оставшимися измерениями? Одно из них можно рассматривать как расположенное под прямым углом к плоскости листа и при желании даже дать его аксонометрическое изображение. Другое измерение нельзя ни показать, ни вообразить. Просто вы должны знать, что его следует рассматривать как протянувшееся перпендикулярно трем упо-
[113]
мянутым выше. Впрочем, упрощенные графики времени используются тогда, когда при решении проблемы можно обойтись одним-двумя пространственными измерениями.
В приводимом ниже графике два измерения листа — «право—лево» и «верх—низ» — представляют, соответственно, время и пространство. А чтобы читатель не спутал измерение с линией, я, подобно картографу, помещающему в углу карты изображение сторон света, поместил в углу рисунка небольшой указатель измерений, где ось Т обозначает время, а ось S — пространство.


На рис. 1 дано двухмерное изображение идеи Хинтона, но я несколько разнообразил линии его системы.
[114]
Сплошные линии изображают материальные нити, тянущиеся (длящиеся) во времени. Присмотритесь к ним и вы заметите, что составляющие их точки в разные моменты времени (на разных расстояниях от края листа) занимают различные положения в пространстве (расположены на листе на разной высоте). Пунктирная линия АВ изображает поперечное сечение «текучей плоскости» Хинтона (можете представить, что она перпендикулярна плоскости листа, хотя в этом нет особой необходимости). Ось Т показывает, что АВ движется строго во временном измерении, не отклоняясь в другие направления. Стрелки, помещенные снизу и сверху движущейся линии АВ, лишь акцентируют эту мысль. В последующих графиках они, как правило, опущены.
Если считать, что АВ движется подобным образом, то крошечные участки сплошных линий в точках пересечения С, D, Е, F, G и Н покажутся движущимися либо в направлении к А, либо в направлении к В — движущимися, так сказать, в пространстве. (Это движение можно увидеть совершенно отчетливо, если на отдельном листе бумаги сделать небольшую прорезь, изображающую АВ, наложить его на график так, чтобы прорезь совпала с АВ, и затем постепенно сдвигать лист по оси Т.)
Воображаемое существо, чье поле наблюдения было бы ограничено АВ, осознавало бы только этот миниатюрный мир движущихся частиц. Но вы и я, чье поле наблюдения охватывает весь график, видите, что крошечные участки пересеченных сплошных линий на самом деле не движутся; просто сменяются виды линий в разрезе по мере того, как наш взгляд следует за движением АВ. И, с нашей точки зрения, линия АВ — единственное, что действительно движется по странице.
[115]
Итак, согласно теории Хинтона, существо, которое могло бы видеть протяженность и времени и пространства, воспринимало бы частицы нашего трехмерного мира всего-навсего как виды в разрезе неподвижных материальных нитей, тянущихся в четвертом измерении, и полагало бы, что трехмерное поле наблюдения, называемое нами «настоящим моментом», — единственная по-настоящему движущаяся вещь во всем космосе.
Хинтон, таким образом, предполагает, что прошлое и будущее «сосуществуют», а переживанием изменения мы обязаны движению «узкого пространства и одного-единственного момента», иначе говоря, «настоящего», относительно рассматриваемой нами временной протяженности. Но Хинтон воздерживается от указания на то, что на это относительное движение должно затрачиваться время.
Хинтон внес значительный вклад в разработку интересующей нас темы, ибо в своем описании ясно обозначил ту роль, которая должна отводиться материи при любом серьезном истолковании обывательского расплывчатого представления о времени. По мысли Хинтона, материя (в его примере символизируемая «нитями») протянута во времени.
Обыватель никогда не заходил так далеко в своих рассуждениях. Ему казался важным лишь сам факт, что нечто должно двигаться во времени. И нет никаких свидетельств того, что он когда-либо осознавал глубокое различие между (а) системой, в которой трехмерное поле наблюдения движется через неподвижный мир четырехмерной материи; и (б) системой, в которой он сам и трехмерный мир движутся вместе, еn bloc, через пустоту.
Последняя концепция, разумеется, полностью ли-
[116]
шена смысла. Разделять ее было бы величайшим заблуждением. Движение вселенной как единого целого через тысячи безликих измерений ничего не изменило бы в ней: оно не объяснило бы ни одного явления — будь то временное или какое-либо иное. В движущейся подобным образом вселенной не было бы такого изменения, такого переживания последовательности, которое бы не ощущалось в равной мере и при отсутствии предполагаемого движения. И концепция этого движения ничего не убавила бы и ничего не прибавила бы к уже имеющимся у вас представлениям.
Человек, позволивший себе невольно отклониться от своего первоначального представления о заполненном времени, иначе говоря, об измерении, в котором он движется от события к событию, и начинающий хвататься за бессмысленную идею о своем движении через пустой, бесплодный континуум, не продвинется далеко в своих размышлениях до тех пор, пока, осознав всю нелепость новой идеи, не решит, что «такой вещи, как время, не существует».
[117]
Хинтон не делал качественного различия между временным и пространственным измерениями. Он начал с идеи о четырех, в сущности, одинаковых измерениях протяженности, вознамерившись выяснить, почему люди считают одно из них как-то по особенному отличающимся от трех других. Ответ он нашел в представлении о трехмерном поле наблюдения, движущемся в некоем четырехмерном целом. При этом временное измерение оказывалось одинаковым для всех наблюдателей вне зависимости от направления наклона пучков материальных нитей, изображающих их тела. Описываемое им движущееся поле должно, таким образом, быть составной частью вселенной, существующей независимо от существования каждого конкретного наблюдателя.
Господин Г.Дж. Уэллс придерживался несколько иного взгляда. В «Машине времени», опубликованной семью годами позже, он устами одного из своих вымышленных персонажей изложил свою мысль с такой предельной ясностью и краткостью, какая едва ли была — если вообще была — доступна кому-либо еще.
Прежде всего он настаивает на необходимости рассматривать время как четвертое измерение (Хинтон не чувствовал ее), как направление, в котором должна измеряться материя.
«Не может быть такой вещи, как мгновенный куб... любое реальное тело должно иметь длину, ширину, толщину и... длительность».
Следовательно, для него, как и для Хинтона, материя тянется (длится) во времени.
«Например, представим себе несколько портретов
[118]
мужчины. На одном из них он запечатлен в возрасте 8 лет, на втором — 15 лет, на третьем — 17 лет, на четвертом ~ 23 лет и т.д. Все они, несомненно, являются поперечными сечениями, или, так сказать, трехмерными изображениями его четырехмерного существа, которое есть неподвижная и неизменная вещь».
(Предполагаемые портреты должны были бы быть скульптурными, трехмерными. Но смысл, впрочем, ясен.)
Он неоднократно подчеркивал, что между временным и пространственным измерениями нет качественного различия. Есть же только кажущееся различие, проводимое самим наблюдателем и в его отсутствие не обнаруживающееся.
«В действительности существует четыре измерения. Три из них мы называем тремя плоскостями пространства, а четвертое — временем. Мы, однако, склонны проводить мнимое различие между последним и тремя первыми, поскольку с начала и до конца наших дней наше сознание скачкообразно движется в одном направлении — в последнем из упомянутых измерений».
Чуть ниже Г.Дж. Уэллс говорит о движущихся во времени элементах как о «наших ментальных существованиях». Обратите внимание на употребление им множественного числа. Нет никакого всеобъемлющего движущегося пласта (stratum), заполняющего пространство между различными наблюдателями, но есть множество «ментальных существовании» — по одному на каждого наблюдателя; и именно их движение — и только их движение — определяет, какое измерение является временем.
В этом утверждении подразумевается нечто, о чем Уэллс специально не упоминает. Каждое такое мен-
[119]
тальное существование сосредоточено в мозге (или вокруг мозга) соответствующего наблюдателя, а значит, в своем движении должно следовать за тем пучком находящихся в четырехмерной протяженности неподвижных нитей, который представляет этот мозг. Тогда, если именно движение «ментального существования» заставляет наблюдателя проводить искусственное различие между временем и пространством, каждый наблюдатель должен думать, что время простирается как раз в том направлении, в каком протянута линия его тела. Таким образом, линия его тела казалась бы ему протянутой строго в его собственном временном измерении и не отклоняющейся в том или ином направлении в пространстве. Иначе говоря, если бы он сидел в вагоне движущегося поезда, он сам себе казался покоящимся (до тех пор, пока не начал бы размышлять о своем положении).
Скажем больше. Линии тел различных наблюдателей никогда не бывают параллельными, а расстояния между нашими телами в пространстве — постоянными. Поэтому различные наблюдатели должны были бы придерживаться немного различных мнений относительно истинной направленности временного и пространственного измерений.
И, наконец, заметим, что Уэллс, подобно Хинтону, не упоминает о том, что на движение любой вещи во времени должно затрачиваться время.
* * *
Теория относительности — это частная теория, привитая к общей теории вселенных, имеющих временное измерение, а значит, ни приживание побега,
120
ни отторжение его не могут поколебать устойчивость самого древа.
Релятивисты перевернули методы, которыми пользовались в XIX веке приверженцы теории временного измерения. Ряд явных аномалий при проведении определенных оптических экспериментов заставил Эйнштейна впервые в истории выдвинуть идею о том, что различные люди должны иметь разные взгляды на время (показываемое часами) и пространство (измеряемое в родах*). Отсюда Минков-ский сделал заключение о существовании четырехмерной протяженности; различие между ее измерениями не качественное, а лишь кажущееся, поскольку каждый наблюдатель считает, что время тянется в направлении линии его собственного тела, представляющейся ему прямой.
В теорию Эйнштейна входит и другое предположение. Но оно, к сожалению, переносит интересующую нас проблему за пределы разумения обывателя. Оно гласит, что «пространственно-временная» протяженность не «плоская», а «искривленная».
Однако ни одно из этих сделанных релятивистами дополнений не оказывает решительно никакого определяющего влияния на более широкую доктрину, рассмотрением которой мы займемся в нашей книге, — доктрину, в общем имеющую отношение к теории временного измерения. И у читателя нет необходимости соглашаться или не соглашаться с нижеизложенным в зависимости от того, принимает он учение Эйнштейна или отвергает.
В теории относительности протяженности протянувшихся во времени объектов обычно называют «мировыми линиями», а иногда просто «траекториями».
* Род — мера длины, равен приблизительно 5 м.
121
«Человек, — говорит профессор Эддингтон*, — это четырехмерный объект, сильно удлиненный по форме; или, выражаясь обычным языком, можно сказать, что он имеет значительную протяженность во времени и малую протяженность в пространстве. Практически он изображается в виде линии — своей траектории в мире». Добавление последних трех слов к вполне законченной формулировке, вероятно, покажется читателю какой-то уловкой, ибо как может линия быть и наблюдателем, и его путем? Но несколькими строками ниже Эддингтон берет на себя труд пояснить свою мысль. «Траектория» (предположительно физического) наблюдателя — это «сам» наблюдатель. (Курсив Эддингтона.) И далее на той же странице он замечает:
«Природное тело тянется как во времени, так и в пространстве и, следовательно, четырехмерно».
Идея достаточно ясна. Для любого конкретного наблюдателя, созерцающего такую систему неподвижных, материальных линий, видимость движения в пространственных измерениях можно было бы создать, как и в модели Хинтона, за счет действительного движения поля наблюдения вдоль «траектории» наблюдателя перпендикулярно временному измерению. Но предположить подобное значит намекнуть, что движущееся во времени поле наблюдения принадлежит психическому наблюдателю, ибо физический наблюдатель уже определен нами как «траектория», по которой происходит движение.
Итак, релятивист оказался в крайне затруднительном положении. С одной стороны, ему вовсе не хотелось бы обременять себя каким-то психическим наблюдателем. С другой, он не желал бы прослыть человеком, не ведающим о том, что мы наблюдаем события
* «Space, Time and Gravitation»,
p. 57.
[122]
последовательно. Именно эта двусмысленность ситуации толкает его на намеренно уклончивое заявление. «Наблюдатель движется вдоль своей траектории», — говорит он и предоставляет читателю возможность делать из этого какие угодно выводы.
К сожалению, читателю, как правило, позволялось представлять «наблюдателя» в виде некоего физического аппарата — органического или неорганического. И не его вина, что он склонен думать, будто «траектория» образована особыми искривлениями релятивистского «пространства-времени», а физические элементы тела наблюдателя движутся по этим траекториям, оставляя на них позади и впереди себя пустоту.
Но вознамерься он утверждать, что именно таково учение об относительности, ему растолковали бы, что траектория, которая реальна в том смысле и в той мере, в какой она объясняет все физические характеристики движущегося по ней воображаемого трехмерного объекта, должна быть в каждом из своих поперечных сечений физически неотличима от самого воображаемого объекта. Физически траектория действительно есть объект, протянувшийся во времени.
В этом — вся суть. То, что, собственно, можно было бы считать движущимся по траектории, должно отличаться от неподвижных сечений самой траектории.
Приняв идею движения по этим протянувшимся во времени траекториям, релятивисты, как и любой другой на их месте, вынуждены были учитывать концепцию времени, охватывающего время, которая неотделима от идеи движущегося во времени объекта. И здесь их обыкновение писать о траекториях то как о протяженностях физических объектов, то как о путях движущихся непротяженных физических объектов — так, будто оба эти представления тождественны, —
[123]
по-видимому, приводит их к путанице. Они говорят о часах, физических инструментах, как о движущихся по траекториям и фиксирующих скорость своего движения. Но физически часы — это пучок траекторий, они не могут двигаться вдоль самих себя; а психологически часы — всего-навсего движущийся вид в разрезе этого пучка траекторий и, следовательно, не позволяющий физически зарегистрировать скорость их движения.
Теория относительности, как уже упоминалось, — это нечто большее, чем набор логических и экспериментальных доказательств давно известной общей теории времени как четвертого измерения. Однако нас непосредственно интересуют в ней два момента:
1. Релятивист признает существование времени, охватывающего время, даже если не осознает, что имеет дело с концепцией серийности.
2. В теорию относительности входит идея о том, что участки траекторий впереди и позади положения любого предполагаемого движущегося во времени наблюдателя обладают в каждом из своих сечений всеми доступными наблюдению характеристиками трехмерного материального мира.
[124]
Теперь, полагаю, мы с полным основанием можем принять следующие три утверждения:
1. В мозгу есть следы-воспоминания о прошлых замеченных переживаниях.
Этот вывод, по-видимому, неизбежен. В результате сотрясения мозга не просто нарушается способность облекать в словесную или какую-либо другую форму воспоминания о случившемся, но некоторым образом оказываются затронутыми и сами воспоминания; ведь пациент не может вспомнить, что с ним произошло. И поскольку физиология доказывает, что такие следы в любом случае должны оставаться и должны поддаваться разрушению, у нас нет причин искать другое объяснение этим фактам.
2. Время имеет длину, делимую на года, дни, минуты и т.д.; длину, каждый момент которой лежит между двумя соседними; длину, вдоль которой выстраиваются события.
Это общепринятая концепция. Заявить о ней все равно что сказать: время — четвертое направление, позволяющее измерить длину, то есть четвертое измерение протяженности.
Мы, однако, принимаем утверждение 2 вовсе не потому, что в нем отражены распространенные взгляды, а потому, что оно логически вытекает из утверждения 1. Ибо мы должны признать: происшедшее некогда в прошлом возбуждение в мозгу и аналогичное возбуждение, имевшее место гораздо позднее, — не одно и то же событие, но два события, отделенные друг от друга иными событиями. Мы могли бы предположить, что такое разделение осуществляется в некой
[125]
четырехмерной «цепочке воспоминаний». Но утверждение 1 исключает подобного рода мысль. Мы начали с представления о памяти как повторном возбуждении в мозгу следа, оставленного прошлым событием. Поэтому мы должны считать, что разделение двух событий в мозгу происходит во времени*.
Это, между прочим, означает, что длина времени не пуста; она содержит в себе физические конфигурации. Данный аргумент оказался бы полезным, если бы читатель уже не был удовлетворен аргументом, изложенным в главе XVII. Там говорилось, что концепция длины времени совершенно бессмысленна, если не рассматривать длину как заполненную такими событиями. Скажем больше: если время имеет длину, то длительность чего-либо во времени должна, как указывает Уэллс, означать протяженность в рамках этой длины.
Для нашей аргументации несуществен вопрос о том, есть ли у каждого человека свое собственное, личное временное направление, или же имеется только одно временное направление, общее для всех наблюдателей. Читатель может придерживаться любого из этих взглядов.
3. Наблюдатель последовательно наблюдает происходящие в мозгу события, или, если угодно, их психические корреляты.
Читатель, желающий оспорить это утверждение или доказывать его несущественность в сфере практического знания, должен быть готов признать, что всякий раз, когда он страдает от подагры, зубной боли, нарушения пищеварения, ревматизма или каких-либо других недугов, отмечающих нашу земную жизнь, дискомфорт, который он испытывает в данный кон-
* См. также критику бергсонианства в третьем разделе данной главы.
[126]
кретный момент, реально значим для него не больше, чем дискомфорт, причиненный ему аналогичной болезнью в прошлом; иначе говоря, что он в одинаковой мере чувствует боль настоящую и боль прошлую. Во избежание возможных недоразумений относительно этой последовательности переживаний рассмотрим наш физический мозг как протянувшуюся во времени «мировую линию» (рис. 2). Здесь, заметьте, мы рассматриваем не движение во времени, а лишь протяженность во времени.

В некоторых положениях А, В и С мозг наблюдателя находится в состоянии, означающем сильный дискомфорт, причем в положении С, называемом «смертью», начинается разложение физического тела. Возможно, вы скажете, что участок мозга А испытывает дискомфорт в А, а участок мозга В испытывает дискомфорт в В, но никак ни в А или С. Однако надо принять во внимание следующее: вы, кто предположительно испытывает в данный конкретный момент дискомфорт в В, уже испытали дискомфорт в А и, вероятно, с опасением смотрите в будущее, предчувствуя неизбежность дискомфорта в С. Но почему участок мозга В должен тревожиться по поводу происходящего в С? Ведь сам участок В не будет испытывать грядущего дискомфорта и останется на своем месте. Но вам-то, наблюдателю, слишком хорошо известно, что
[127]
вы не будете продолжать наблюдать событие, происходящее в В. Вы знаете, что вскоре будете наблюдать событие, происходящее в С, а также то, что хотя событием С и заканчивается короткая кинолента вашей жизни, вы не в силах предотвратить его неминуемого появления на вашем экране наблюдения. Следовательно, ваше поле наблюдения должно было продвинуться от А к В, а затем двигаться от В к С.
* * *
Позвольте заметить, что у нас нет необходимости обсуждать здесь вопрос о том, служит ли представление о времени как имеющем длину аналитическим приемом или признанием «реального факта». Аналитические приемы и приборы — лишь средства, помогающие выявить различия и отношения, которые без их помощи так и остались бы скрытыми. Но если отношений, ждущих момента, когда их наконец обнаружат, нет там, где их ищут, аналитические приемы и устройства не покажут нам ничего нового. И неважно, что каждое из этих хитроумных изобретений описывает явления на своем собственном языке — например, градусы в термометре обозначаются делениями ртутного столба, а переменные в математике — буквами «х» и «у». То, что показывают аналитические приемы и приборы, должно иметь свое соответствие в скрытой реальности; и это — единственное, что значимо для ученого.
Попутно хотелось бы сделать еще одно замечание, дабы читатель не заподозрил нас в стремлении навязать ему нежеланные для него взгляды: все вопросы практического характера, которые он ежедневно зада-
[128]
ет сам себе относительно времени, основываются на предположениях о том, что время имеет длину; что вдоль этой длины располагаются события; и что он переживает эти события последовательно. И ответы на его вопросы, разумеется, должны быть даны на языке указанных предположений.
* * *
Теперь, по-видимому, настал момент предупредить читателя об одной концептуальной ловушке. «Почему, — может спросить он, — все прошлые и нынешние приверженцы теории временного измерения изображают свои физические «мировые линии» как тянущиеся впереди «настоящего момента», представленного на рис. 1 линией АВ? Почему бы не видоизменить график и не сказать, что мировые линии растут во времени, как показано на рис. 3?»
Ответ таков: эта идея грешит против научного закона экономии гипотез, запрещающего при рассмотрении какой-либо проблемы вводить дополнительные гипотезы сверх тех, которые строго необходимы для объяснения имеющихся фактов. Ибо ненужная гипотеза есть неоправданная гипотеза.
Продемонстрируем, как этот закон применим для данного случая. На рис. 4 изображены факты, подлежащие рассмотрению прежде, чем будет введено вносящее ясность понятие о длине времени, иначе говоря, изображено пространство, в котором движутся частицы.
На графике показаны:
1. Физические объекты С, D, Е, F, G и Н.
2. Только один вид активности — перемещения объектов вверх—вниз в пространственном измерении, причем эти перемещения могут осуществляться с переменными скоростями — особенность, с трудом поддающаяся пониманию или объяснению. Действительно, только после появления Ньютона мы смогли описать эти скорости с помощью законов.

[130]
Теперь введем временное измерение и обратимся к рис. 1 (советуем читателю заглянуть на соответствующую страницу), где показаны:
— физические объекты, имеющие на одно измерение больше, чем объекты на рис. 4. Для сравнения на рис. 3 показаны:
— физические объекты, также имеющие на одно измерение больше, чем объекты на рис. 4. Однако в качестве дополнения — ненужного дополнения — мы предполагаем, что эти протяженные объекты следует мыслить как постоянно нарастающие в процессе творения. По правде сказать, предположение очень странное и бездоказательное.
Рассмотрим направление, в котором изображается движение. На рис. 1 показан:
— по-прежнему только один вид активности — движение линии АВ во временном измерении.
Но здесь, на рис. 1, мы имеем нечто большее: нам удалось обобщить движение (момент крайне важный с философской и математической точек зрения). Мы избавились от всех переменных, возвратно-поступательных движений, представленных на рис. 4, заменив их одним простым, единообразным движением линии АВ во временном измерении.
Для сравнения на рис. 3 показана:
— активность во временном измерении (как и на рис. 1), ибо мировые линии выстраиваются за счет единообразного прироста в этом измерении.
Также здесь по-прежнему представлена активность в пространственном измерении (как и на рис. 4), ибо мировые линии выстраиваются за счет прироста как в пространственном, так и во временном измерении.
Более того, нам по-прежнему дана первоначальная сложность движения, рассмотренная на рис. 4, ибо
[131]
прирост в пространственном измерении осуществляется с переменными скоростями.
Итак, на рис. 1 задействовано минимальное количество гипотез — ровно столько, сколько необходимо для объяснения имеющихся фактов, а движение сведено к своему простейшему виду. Между тем на рис. 3 введена дополнительная и, следовательно, совершенно ненужная гипотеза, которая, помимо всего прочего, не упрощает нашу концепцию движения, а еще больше усложняет ее. Да и сама по себе эта гипотеза весьма сомнительного свойства.
Таким образом, нам нужно выбирать между рис. 4 и рис. 1, и выбор будет зависеть от того, желаем мы анализировать значение времени или нет.
Читатель, надеюсь, простит мне раздел, которым я собираюсь закончить эту главу и который адресован скорее людям, изучающим бергсонианскую философию.
* * *
Рис. 3, на мой взгляд, с абсолютной точностью воспроизводит концепцию времени, которую в конце концов признал профессор Анри Бергсон в своей работе, опубликованной год спустя после выхода в свет монографии Хинтона. Дата издания интересует нас постольку, поскольку свидетельствует о популярности в те дни теории времени как четвертого измерения.
Бергсон начинает с рассмотрения предполагаемых четырех измерений протяженности — трех измерений пространства и «длительности» — и заявляет, что последнее из них — ложное. Кто-нибудь, вероятно, сделает из этого заключение (ошибочное или истинное),
[132]
что под «длительностью» понимается время и что Бергсон предпринимает анализ рис. 4, не прибегая к помощи временного измерения.
Моменты «чистой длительности», утверждает он, не являются внешними по отношению друг к другу, но «накладываются» друг на друга подобно тому, как мог бы наложить изображения печатник.
Вскоре, однако, выясняется, что «чистая длительность» — вовсе не время.
«Подводя итог, — пишет он, — можно сказать, что всякий раз, когда мы ищем объяснения свободе, мы, сами того не подозревая, возвращаемся к следующему вопросу: «Может ли время быть адекватно представлено пространством?» На это мы (т.е. профессор Бергсон) отвечаем: Да, если вы имеете дело с временем протекшем; нет, если вы говорите о времени текущем»*.
Но совершенно очевидно, что именно это и изображено на рис. 3.
Таким образом, «чистую длительность», по-видимому, можно отождествить с «настоящим» обывателя и с движущимся «узким пространством и единственным моментом» Хинтона — линией АВ на рис. 3.
Бергсон понимает, что признания временного измерения, состоящего из моментов, внешних по отношению друг к другу, недостаточно. Его «чистая длительность» также состоит из моментов, но не внешних по отношению друг к другу, а «наложенных» одно на другое.
Тем самым он предлагаем нам для рассмотрения две группы моментов — те, которые накладываются, и те, которые находятся в «прошлой» части временного измерения.
От себя лично должен добавить, что «наложенные» моменты бергсоновской «чистой длительности» сви-
* «Time and Freewill», p.
221.
[133]
детельствуют о допущении им существования времени, охватывающего время, — времени, настойчиво заявляющем о себе при любой попытке провести временной анализ. На нарастание его нарастающего «прошлого» затрачивается время. Но создается впечатление, будто Бергсон, не склонный признавать такую серию времен и под влиянием своих предыдущих рассуждений не желающий уступить даже дюйма протяженности какому бы то ни было времени, вынужден искать прибежище в идее «наложения».
Профессор Н. Wildon Сагг(см. р. 14, «The Philosophy of Change»), похоже, излагает ту же теорию Бергсона, но в несколько ином свете, называя «памятью» изображенный на рис. 3 элемент, который нарастает в виде цепочки прошлых событий. При этом оказывается, что воспоминание — это скачок сознания назад, в измерение «памяти». Именно эта теория, по-видимому, заставляет Бергсона уделять так много времени мужественной, но довольно неудачной атаке на общепринятое физиологическое представление о памяти. Однако рис. 3 подходит также и для иллюстрации идеи Уилдона Карра. Надо лишь заменить букву Т в указателе измерений на букву М, обозначающую «память», а движущуюся линию АВ переименовать в DD, обозначающую бергсоновскую «чистую длительность».
Но в любом случае график достоин осуждения по уже известной причине: в дополнение к протяженности в четвертом измерении там вводится совершенно ненужная гипотеза о постоянном творении из ничего, и делается это за счет не упрощения, а дальнейшего усложнения переменного движения.
Примечательно отношение Бергсона к будущим событиям. В его схеме, как и на рис. 3, они просто не существуют ни в какой форме. На этом и основан его аргумент в пользу свободы воли.
[134]
«Серия» — это совокупность индивидуально отличимых объектов, которые расположены или считаются расположенными в последовательности, определяемой каким-либо верифицируемым законом. Компоненты серии — индивидуально отличимые объекты — называются ее «членами».
Природа членов, рассматриваемых вне зависимости от их положения в серии, малосущественна для математика. Ему безразлично, будут ли членами горошины в стручке, колебания маятника, борозды и гребни на вспаханном поле или напряжения вдоль консольной балки. Его интересует отношение между ними
— отношение, которое связывает каждый член с последующим и выявляет закон, скрепляющий их всех в некую упорядоченную протяженность.
Это специфическое отношение может влиять, а может и не влиять на значения самих членов. Тот факт, что горошина находится в одном ряду с другими, ей подобными, не оказывает, насколько мне известно, серьезного влияния на ее сущностную значимость. Однако при каждом новом отклонении маятника его размах зависит от предыдущего отклонения. А величины напряжений в любом месте консольной балки, вызванных приложенной к ее концу нагрузкой, зависят от конкретного отношения, связующего отдельные составляющие системы. (Например, для простейшей балки значения сил, направленных вертикально и диагонально, образуют серию равных членов; тогда как значения сил, направленных горизонтально, об-
[135]
разуют серию членов, расположенных в арифметической прогрессии.)
У первого члена серии указанное отношение отсутствует с одного края, но и у этой односторонности есть свой практический смысл. Так, первое отклонение маятника не определяется предыдущим отклонением, но вызывается внешней силой. Первая борозда на вспаханном участке отличается по сечению от всех других. А силы, действующие на конечные члены консольной балки, уравновешены не за счет давлений и натяжений в ее составляющих, а за счет приложенной к ее концам внешней нагрузки.
Ранее мы убедились, что если время идет, растет, накапливается, затрачивается — одним словом, выделяет все что угодно, но только не стоит неизменно и неподвижно перед взором фиксированного во времени наблюдателя, значит, должно существовать второе время, которое отмеряет активность первого времени (или в первом времени), а также третье время, отсчитывающее второе время, и так до бесконечности, образуя серию. Любой философ, лицом к лицу столкнувшийся с назойливой, неумолимой вереницей времен, вероятно, тут же приступил бы к тщательному и систематическому изучению природы этой серии, желая установить, (а) каковы ее действительные компоненты и (б) имеет ли сериализм хоть какую-нибудь ценность. Ибо вовсе не исключено, что в нем нет ровным счетом ничего стоящего. Однако люди, всю свою жизнь ищущие простое объяснение Вселенной, непременно попытались бы любой ценой избежать мысли о том, что природа одного из их основополагающих принципов — столь близкого к искомому ими «ничто» — может оказаться серийной. Они, понятное дело, остановились бы и огляделись вокруг в надежде найти более ко-
[136]
роткий путь. Но кто-то же должен положить конец этой задержке. Впрочем, стоять в течение двадцати двух веков, взирая на абсолютно свободный путь, необязательно противоречит признанным традициям философской методологии. Но было бы вчуже жаль, если бы кто-то отважился на подобный шаг только потому, что ошибочно принял этот достойный уважения круговой обзор за банальную дремоту.
[137]
Приступаем ли мы к анализу серийного времени по велению логики или из-за стремления узнать, в какую страну приведет нас избранный путь, мы в любом случае должны понимать: если мы обнаружим нечто, еще не явленное в первом, обыкновенном, общепризнанном члене серии, то это «нечто» будет находиться вне сферы компетенции любой философии, развившейся на основе концепции одномерного времени, иначе говоря, окажется совершенно чуждым нашим теперешним представлениям о существовании. Следовательно, мы не имеем права останавливаться только потому, что натолкнулись на нечто новое — ведь именно его мы и собираемся отыскать. Скажем больше: не следует упускать из виду, что сериализм во времени практически неизбежно означает сериализм и в других областях. Действительно, вскоре мы обнаружим (читателю лучше подготовиться к худшему), что он предполагает серийного наблюдателя.
В данных обстоятельствах оптимальным вариантом для нас было бы сначала завершить анализ (и до тех пор, пока данные будут логически вытекать из наших посылок, нам безразлично, правдоподобны ли они или нет), а затем выяснить, согласуются ли полученные результаты с основным корпусом наших знаний. Как оказалось, наш случай — один из тех, когда выбор правильного метода — первейшее условие, ибо только после завершения анализа новые концепции начнут обретать полнозначность.
Поэтому мы посоветовали бы читателю вплоть до перехода к следующей главе воздержаться от всяких мыслей относительно значений и воспринимать пред-
[138]
лагаемый ему анализ как простое умственное упражнение, важное не больше, чем разгадывание кроссворда. На данном этапе читатель должен лишь убедить себя в том, что три закона, изложенные в конце этой главы, были должным образом выведены из наших посылок и вполне верно отражают отношения между членами нашей серии.
* * *
«Из окна железнодорожного вагона, — говорит профессор Эддингтон, — мы видим корову, проносящуюся мимо со скоростью 50 миль в час, и заявляем, что животное мирно отдыхает».
Картина, отрадная во многих смыслах, и я весьма сожалею, что вынужден оторвать читателя от созерцания этой идиллии и привлечь его внимание к картине, нарисованной не в столь радужных тонах. Итак, продолжим.
Представьте себе, что мы все еще сидим в том же самом вагоне, но теперь он уже стоит на станции. Глядя из окна в сторону, противоположную платформе, мы видим другой поезд, неподвижно стоящий на рельсах. Пока мы смотрим, раздается свисток, и мы понимаем, что наш поезд трогается. Постепенно он набирает скорость, в поле нашего зрения быстро проносятся окна другого поезда, но... закрадывается сомнение... мы не чувствуем привычного покачивания вагона. Мы бросаем взгляд на окна Станции и с изумлением обнаруживаем, что наш вагон до сих пор стоит. Движется же другой поезд.
Итак, в первом случае наше внимание приковано к зрительно воспринимаемому явлению — корове; она
[139]
перемещается в поле представления, а внимание следует за ней. Мы приходим к выводу, что внимание направлено на некоторую точку в поле представления, соответствующую чему-то неподвижному во внешнем пространстве, и что в то время, как внимание зафиксировано подобным образом, поле представления и наблюдатель движутся.
Во втором случае зрительно воспринимаемое явление — окна другого поезда — также перемещается в поле представления, а внимание следует за ним. Мы опять делаем вывод, что внимание зафиксировано, а поле — вместе с наблюдателем — движется. Однако потом на основании другого очевидного факта мы приходим к прямо противоположному суждению и утверждаем, что поле и наблюдатель должны быть неподвижны, а внимание — перемещаться.
Итак, суждение, вынесенное в первом случае, может отличаться от суждения, вынесенного во втором случае, но в обоих случаях непосредственное психическое переживание одинаково. Наблюдаемое явление — будь то корова или окна другого поезда — движется в поле представления (за ним следует и фокус внимания) до тех пор, пока на краю поля не исчезает. И в обоих случаях поле представления остается неподвижным относительно наблюдателя.
Такое поле представления, которое неподвижно относительно наблюдателя и в котором, как предполагается, происходит сознательное наблюдение, сжатое до перемещающегося фокуса, называемого вниманием, неизбежно должно было стать отправной точкой нашего анализа. (Причем надо полагать, что все показания приборов явлены именно в этом поле.) Но не нужно забывать, что в поле, помимо зрительных, содержатся также и другие явления. Действительно, оно
[140]
охватывает все виды ментальных явлений — замеченных или незамеченных, — которые даны для наблюдения. Оно представляет собой обозреваемое наблюдателем пространство и, согласно нашей теории, занимает в пространстве то же положение, что и участок мозга наблюдателя, находящийся в состоянии явной активности, которая сопутствует созданию наблюдаемых психических явлений.
Такое расположение поля и участка мозга в пространстве мы изобразим на рис. 5 в виде линии CD, приняв «верх—низ» страницы за пространственное измерение. Время здесь пока еще не показано.

Поскольку содержимое CD находится, как предполагается, в состоянии активности, его следует представлять движущимся вверх-вниз в пространственном измерении. Длина CD неопределенна, так как в разные моменты времени задействованные участки мозга могут увеличиваться и уменьшаться. Этот график необходимо воспринимать как работающую модель, о чем свидетельствуют две стрелочки на указателе измерений, помещенном на рисунке снизу. Они означают, что в пространстве происходит движение.
(Следует помнить, что в соответствии с более рас-
[141]
пространенными взглядами на пространство, сама линия CD может перемещаться в нем как единое целое.)
Рис. 5 — наш исходный пункт. Он не является членом серии, поскольку на нем не показано время.
Для наблюдателя, чье поле представления занимает в пространстве положение CD, события разворачиваются последовательно, одно за другим. Он воспринимает время как неустанное свойство существования — свойство, которое, хотя и достаточно реально, чтобы иметь огромное значение лично для него, не может быть определено в рамках обозреваемого им пространства, ограниченного тремя измерениями. В его поле явления движутся, изменяются, исчезают. На все эти изменения «затрачивается время». Он пытается отождествить «затрачиваемое время» с участком пространства, по которому передвигается указатель, например стрелка часов, но терпит неудачу, поскольку сам он прекрасно знает, что движение стрелки нельзя измерить при помощи одного только циферблата. Ход стрелки по нему может быть и быстрым и медленным, а значит, занимать либо больше, либо меньше времени. Причем в случае остановки часов на другие движения все равно будет «затрачиваться время». Наблюдатель осознает, что воспоминания постоянно накапливаются и на их накопление «затрачивается время». Даже сидя в темноте и размышляя он понимает, что размышление — процесс, «требующий времени». А когда он приходит в себя после наркоза, ему кажется, что время «пролетело».
Он сознает, что «затраченное время» можно измерить в простой однонаправленной системе, называемой протяженностью, и что в ней наблюдаемые им явления существуют в течение некоторых промежутков
[142]
— более длинных или более коротких. А так как мы полностью с ним согласны, введем это измерение протяженности в наш график, воспользовавшись направлением «право—лево» на плоскости страницы.
Для облегчения восприятия разделим наш анализ на две ступени — по два этапа каждая. На первом этапе первой ступени нам нужно лишь показать, что физические элементы мозга CD имеют протяженность (длительность) во времени. Начнем с моментального снимка рис. 5. Во избежание недоразумений с релятивистами условимся, что мы находимся рядом с владельцем мозга CD. Тогда запечатленные на снимке положения этих якобы движущихся элементов мы сможем рассматривать как их положения в данный конкретный момент времени, который нам и владельцу мозга представляется «настоящим» моментом. На рис. 6 (а) и рис. 6 (б) снимок показан соответственно в виде линии CD и линии C'D', тогда как «прошлые» и «будущие» состояния якобы движущихся элементов рис. 5 занимают во временном измерении фиксированные положения соответственно слева и справа от СД (или C'D').
Взятые вместе «прошлые», «настоящие» и «будущие» состояния дадут нам полоску из волнистых линий, длящихся (тянущихся) во времени. Вертикальное (пространственное) сечение, сделанное в любом месте полоски, укажет, какие именно психофизические явления наблюдались бы в данный конкретный момент времени, если бы там находилось поле представления.
Однако, хотя «прошлые» и «будущие» состояния элементов мозга изображены в виде неких целостностей, занимающих фиксированные позиции во временном измерении, пока не совсем ясно, можно ли
[143]
подобным образом изучать и поле представления. Тот факт, что CD на рис. 6 (а) или C'D' на рис. 6 (б) — моментальный снимок движущихся элементов рис. 5 в некий момент времени, воспринимаемый нами и владельцем сфотографированных элементов мозга как «настоящий» момент, вероятно, должен означать, что во всей протяженности линия CD (или C'D') — единственное поле представления. Мы отмечаем это мимоходом и, ожидая дальнейших разъяснений по данному вопросу, переходим к рассмотрению сущностного различия между рис. 6 (а) и рис. 6 (б).

[144]
Можно видеть, что на рис. 6 (а) полоска тянется строго вдоль временного измерения, тогда как на рис. 6 (б) она слегка наклонена. И вот почему: АА' представляет единственно возможную протяженность, по мнению тех, кто, подобно релятивистам, полагает, что различия между временным и пространственными измерениями чисто искусственно проведены отдельными наблюдателями, ибо каждый из них рассматривает в качестве временного измерения направление, в котором тянутся линии его собственного тела. Тогда в соответствии с этой теорией восприятие нами вертикального измерения листка как пространства, а горизонтального как времени ничуть не противоречит взглядам владельца мозга, изображенного на рис. 5, и заставляет нас согласиться с его дополнительным выводом о том, что его собственная длительность во времени тянется строго вдоль временного измерения. Между тем ВВ' представляет одну из многих наклонных протяженностей, возможное существование которых признают те, кто думают, что направление времени для всех одинаково и не имеет ничего общего с направлением линий тела какого-либо конкретного наблюдателя.
В обоих случаях «настоящий момент» времени мы изобразили пунктирными линиями — продолжениями линии CD (или C'D').
На этом первый этап закончен. В результате мы получили крайне неполную картину того, с чего начали наш анализ, а именно — состояния, показанного на рис. 5. Там элементы представлялись якобы движущимися вверх-вниз в пространственном измерении, и их движение было явлено как владельцу нарисованного мозга, так и нам. Мы использовали этот график в качестве работающей модели, последовательно раскры-
[145]
вающей свои состояния. Однако на рис. 6 (а) и 6 (б) нет и признака такого движения. Полоски АА' и ВВ', изображающие элементы рис. 5 в их временной протяженности, считаются неподвижными во всех измерениях. (По этой причине мы вынуждены были убрать стрелочки на индикаторе измерений.) А состояния мозга, изображаемые разнообразными поперечными сечениями полосок, не представлены последовательно наблюдателю. Они либо представлены все одновременно, либо представлено только одно из них — состояние в «настоящий» момент, то есть CD (или C'D').
На втором этапе мы должны восстановить недостающее движение понятным и, пожалуй, единственно возможным способом, уже известным читателю. Мы просто пририсуем стрелочку к оси Т на индикаторе измерений, отметив тем самым, что на данном графике линия CD (или C'D') является, как мы и подозревали, единственным полем представления и что оно движется во временном измерении в направлении, указанном стрелкой. В итоге мы имеем рис. 7 (а) и 7 (б).
А еще мы поставим цифру 1 после буквы Т на индикаторе измерений. Зачем — станет ясно через минуту.
Теперь мы завершили первую ступень анализа и получили всего-навсего исправленный вариант нашего исходного пункта. Наш график по-прежнему служит работающей моделью и больше не противоречит утверждениям, сделанным относительно рис. 5. Линия CD (или C'D') по-прежнему является полем представления, в котором последовательно представлены события. А точки пересечения движущегося поля с волнистыми линиями перемещаются по полю
[146]
вверх-вниз, создавая видимость движущихся элементов.
Поскольку поле представления движется по протяженному субстрату, некоторые из представленных в поле явлений покажутся по отношению к другим движущимися. Ибо внимание, сфокусированное на якобы движущемся явлении, имеет периферию, которая охватывает достаточно много смежных и сравнительно неподвижных явлений, чтобы сделать различия заметными.

Разумеется, здесь у нас нет доказательств того, что такая подвижность внимания есть нечто большее, чем
[147]
просто обусловленная непроизвольная активность в поле невмешивающегося наблюдателя.
Однако результаты, полученные на первой ступени, нас по-прежнему не удовлетворяют. Анализируя посылки и их следствия, мы пришли к далеко идущим выводам, которые логически неизбежны. Но проблема заключается в том, что идут они недостаточно далеко.
Прежде всего мы столкнулись с новым объектом рассмотрения, а именно движущимся во времени полем представления. Теперь мы не можем отделять это поле от наблюдателя, которому явлено его содержание, поставляемое элементами мозга в субстрате. Следовательно, CD (или C'D') надо рассматривать как место, где этот наблюдатель (движущийся во времени) пересекает АА' (или ВВ'). Описываемое нами поле — это, конечно же, наше первоначальное поле, а наблюдатель — наш первоначальный, сознательный наблюдатель. И он должен быть конкретным существом, ибо никакая абстракция не может двигаться, так сказать, сама по себе.
В вышеизложенном, надо заметить, нет ничего такого, что могло бы встревожить материалиста. Достигнув конечной точки субстрата мозга, наш наблюдатель вместе со своим полем, разумеется, обнаружит, что доступные наблюдению явления исчезли. Ничто не указывает и на то, что он обладает хотя бы минимальной способностью вмешиваться в чисто механическую последовательность наблюдаемых им состояний мозга.
Мы вынуждены рассматривать этого наблюдателя как трехмерного. И во избежание возможных недоразумений лучше сразу пояснить, что означает наше заявление.
Для любого наблюдателя временное измерение —
[148]
это измерение, в котором все переживаемые им события предстают перед ним в определенной последовательности, — измерение, в котором он (или его внимание) не перемещается назад с целью нарушить порядок следования переживаний. Измерения же, в которых его внимание может двигаться взад-вперед, представляются ему перпендикулярными временному измерению. Таким образом, истинным временным измерением для наблюдателя является на наших графиках измерение, действительно определяющее порядок следования его переживаний.
Для нашего наблюдателя измерение, определяющее порядок его последовательных переживаний, — это измерение, в котором движется поле. Значит, подвижность его внимания ограничена тремя пространственными измерениями, перпендикулярными временному. Вот почему он является существом, чья способность к наблюдению трехмерна. Именно это мы и имеем в виду, когда называем его трехмерным наблюдателем.
В рамках выдвигаемой в данной главе аргументации несущественно, простираются ли его другие способности в других измерениях или нет. Как наблюдатель он трехмерен.
Итак, первая ступень опять преподнесла нам новую проблему, связанную со временем. И дело вот в чем. Наблюдающее существо вместе со своим полем CD (C'D') движется не настолько медленно, чтобы быть неподвижным, и не настолько быстро, чтобы быть сразу во всех местах. А любое состояние между этими двумя крайностями должно описываться количеством времени, затрачиваемым на прохождение определенного расстояния. Но пройденное расстояние лежит вдоль первого рассмотренного нами
[149]
временного измерения; следовательно, затраченное время — это время, нигде не показанное на графике. Точно так же нигде не показано на рис. 5 первое рассмотренное нами время. Вот почему на рис. 7 (а) и 7 (б) мы представили Т как Т1, подчеркивая, что оно не является тем конечным временем, которое отмеряет движения — реальные или кажущиеся — на этих графиках. Это конечное время мы можем назвать Т2.
* * *
Для упрощения нашего следующего графика изобразим полоски АА' или ВВ' (в данном случае неважно, какую именно) так, как они выглядели бы, если смотреть на лист с нанесенным на него чертежом, подняв его до уровня глаз. Тогда каждая из них предстанет в виде линии; на рис. 8 эта линия показана как линия GH, а поле CD (или C'D') —место, где вклинивается наше движущееся наблюдающее существо, — как движущаяся точка О. Каждая фиксированная точка между G и Н представляет одно из состояний мозга, одно из пространственных сечений либо полоски АА', либоВВ'.

[150]
Пространственное измерение, которое изображено на рис. 7 (а) и 7 (б), в данном случае расположено перпендикулярно плоскости листа. Для других пространственных измерений на нашем рисунке нет места, но мы будем помнить, что они, как предполагается, пересекают график.
Рис. 8 можно считать первым «членом» нашей серии. На нем показывается и анализируется время, причем ясно, что это не конечное время.
Теперь изобразим на рис. 8 время, затрачиваемое на движение точки О слева направо, воспользовавшись тем же самым методом, каким мы изображали время, затрачиваемое на пространственные перемещения элементов на рис. 5.
Новое временное измерение должно будет располагаться перпендикулярно линии GH, подобно тому, как наше первое временное измерение на рис. 5 должно было располагаться перпендикулярно линии CD. Назовем наше новое временное измерение Время 2 (о нем мы уже упоминали). Теоретически Время 1 по отношению ко Времени 2 сродни любому из трех «обычных» пространственных измерений. Вместо четырехмерного мира, где четвертым измерением служит время, мы получили пятимерный мир, где эту опасную роль играет пятое измерение.
Во Времени 2 все составляющие GH целостности, включая движущееся существо в точке О, имеют длительность, иначе говоря, существуют, пока вы видите движение точки О. Их длительности надо изобразить как протяженности во временном измерении 2.
Начнем, как и прежде, с моментального снимка нашей работающей модели. Фотография делается в момент, который является для нас «настоящим моментом» конечного времени — времени, отмеряющего
[151]
движение точки О пo GH, то есть Времени 2. На снимке представлено состояние рис. 8 в этот «настоящий момент». На рис. 9 мы изобразили снимок в виде линии GH, причем линия рр' указывает на рассматриваемый нами «настоящий момент».
Затем мы должны изобразить «прошлые» и «будущие» состояния (во временном измерении 2) фиксированных положений мозга, представленных неподвижными точками на GH, как находящиеся, соответственно, ниже и выше своего «настоящего» положения на GH. Поскольку эти состояния не меняют своего положения ни в пространстве, ни во Времени 1, их длительности во Времени 2 следует показать как протяженности строго вдоль Времени 2. Поэтому на рис. 9 они превращаются в вертикальные линии, тянущиеся по странице вверх и вниз без каких бы то ни было ограничений, которые мы пока еще можем установить. Но подобным образом мы должны рассмотреть всего лишь несколько избранных точек.
Теперь нам предстоит рассмотреть другую вполне конкретную целостность — трехмерное наблюдающее существо, пересекающее трехмерное поле О. В «настоящем» состоянии рис. 8 (GH на рис. 9) точка их пересечения лежит посередине линии. Но поскольку на рис. 8 эта точка движется во Времени 1, ее положения в «прошлых» состояниях того графика должны находиться на рис. 9 ближе к G'G", а ее положения в «будущих состояниях» — ближе к Н'Н".Соединив эти разнообразные точки пересечения, мы получим диагональ 0'0". Она и будет представлять длительность (временную протяженность) конкретного секущего существа.
[152]

А сейчас мы опять вынуждены задать тот же вопрос, что волновал нас на первой ступени. Мы изобразили «прошлые» и «будущие» состояния всех конкретных целостностей нашей работающей модели (рис. 8), включая секущее существо в точке О, в качестве протяженностей этих целостностей, занимающих фиксированные позиции в «прошлой» и «будущей» частях временного измерения 2. Но рассмотрели ли мы подобным образом наше первоначальное трехмерное поле представления! Наш ответ неизбежно будет таким же, как и раньше, и по той же самой причине. На наших картах времени поле представления О непременно должно перемещаться, хотя все остальное неподвижно. В противном случае наши графики не были бы работающими моделями и не описывали бы то
[153]
изображаемое работающими моделями состояние, которое мы взялись проанализировать. А состояния мозга не представлялись бы наблюдателю последовательно. Либо все они были бы представлены одновременно, либо было бы представлено только одно из них — состояние в фиксированной точке О. Следовательно, трехмерное поле представления О должно всегда рассматриваться как движущееся таким образом, что может проходить состояния мозга одно за другим.
Но прежде, чем изучать дальше природу этого движения, посмотрим, нельзя ли еще узнать о свойстве нашего наблюдающего существа О'О".
С самого начала точка О изображала трехмерное поле, где происходит сознательное наблюдение. Поэтому в точке О наше конкретное длящееся существо О'О" и есть сознательный наблюдатель — наш первоначальный, трехмерный, сознательный наблюдатель. Тогда чем же он является в других местах? «Бессознательным наблюдателем», — могли бы мы ответить. Однако лучше воздержаться от этого сомнительного наименования. Уместнее назвать его бессознательным «реагентом», что в данном случае просто означает существо, реагирующее на состояния мозга (вертикальные линии на рис. 9), которые оно пересекает, или видоизменяющееся в соответствии с ними. Этот термин предполагает наблюдение лишь в том смысле, в каком мы говорим о наблюдении, осуществляемом, скажем, прибором. Каким образом «реагент» может стать сознательным в поле представления О, мы поймем тогда, когда завершим наш анализ. Сейчас нам известно только то, что «реагент» сознателен в точке О (согласно первоначально данному ей определению).
Надо полагать, что точка О движется, причем движется во Времени 1. Соответственно, она должна оста-
[154]
ваться на линии 0'0" и рассматриваться как движущаяся по этой диагонали, иначе говоря, во Времени 2. Значит, для того, чтобы наш конечный наблюдатель последовательно наблюдал содержимое моментов Времени 1, ему необходимо последовательно наблюдать содержимое моментов Времени 2. Его поле представления должно перемещаться в конечном времени — в данном случае Времени 2.
По аналогии с результатами, полученными на первой ступени, нужно ожидать, что на рис. 9 (моментальном снимке рис. 8 в тот момент, который мы воспринимаем как «настоящий») линия GH целиком станет этим движущимся во Времени 2 полем представления, существование которого смогло выявиться лишь тогда, когда рис. 8 приобрел новое измерение во Времени 2. На первой ступени существование движущегося во времени поля CD (или C'D') на якобы активном рис. 5 (т.е. работающей модели) также обнаружилось лишь тогда, когда рис. 5 приобрел новое измерение во Времени 1.
Однако не будем забывать, что первый член серии может в некоторых отношениях отличаться от остальных. Поэтому на второй ступени благоразумнее не полагаться на аналогию, но продолжить определение свойств нашего второго члена при помощи анализа того, что стоит за фактом последовательности переживаний.
Итак, точка О движется по О'О". Но линия GH — единственное, что делает точку О конкретной точкой на 0'0". Следовательно, линия GH должна перемещаться во Времени 2. Между тем, линия GH изображает состояние рис. 8 в тот момент, который мы считаем «настоящим моментом» во Времени 2. Таким образом, этот «настоящий момент» во Времени 2 движется во Времени 2.
[155]
Полезно напомнить, что на данной ступени Время 2 — истинное Время, а движущийся во Времени 2 «настоящий момент» — истинный движущийся «настоящий момент». Наш прежний движущийся во Времени 1 «настоящий момент» стал на графике всего-навсего точкой пересечения истинного движущегося «настоящего момента» и неподвижной диагонали. Сам по себе он не существует, но определяется «настоящим моментом» Времени 2. Точка О определяется линией рр'. На языке науки это означает, что наши Времена не параллельны, а выстраиваются в серию.
Итак, чем бы ни был наш конечный наблюдатель, он наблюдает точки на линии О'О" сознательно и последовательно от О' до О". И, как мы ранее уже убедились, единственное, что определяет порядок следования этих точек при наблюдении, — движущийся «настоящий момент» во Времени 2. Значит, конечный наблюдатель за меняющейся точкой на линии 0'0" — это наблюдатель, для которого Время 2 выступает в качестве единственно реального времени. И не важно, что именно он сам думает о времени или как он представляет себе направление его протяженности. Время 2 есть время, определяющее последовательность его переживаний. А Время 1 расположено перпендикулярно Времени, единственно для него реального и определяющего. Поэтому для него Время 1 сродни «обычному» пространственному измерению. Иначе говоря, подобно тому, как на первой ступени конечный сознательный наблюдатель представлялся трехмерным существом в трехмерном мире, на второй ступени, предлагающей нам усовершенствованный взгляд на положение дел, он предстает четырехмерным наблюдателем в четырехмерном мире, отмеченном линий рр'. И четырехмерный наблюдатель дол-
[156]
жен иметь четырехмерное поле представления, лежащее на рр' и движущееся вместе с рр'.
Однако обнаружение новых элементов на нашем разрастающемся графике не дает нам права отвергать исходные гипотезы, заложившие его фундамент. Аргумент в пользу существования поля представления 2 основан на предположении, что имеется некоторая точка О, движущаяся по линии 0'0". И теперь мы не можем отрицать, что линия 0'0" в точке О есть сознательный трехмерный наблюдатель. Ибо только потому, что ранее, на первой ступени, мы признали присутствие на линии GH в этой точке такого сознательного трехмерного наблюдателя, мы позднее смогли включить линию 0'0" в наш график. Следовательно, наши построения восходят к истокам нашего анализа. Ничего из установленного нами ранее не должно игнорироваться в дальнейшем.
Итак, трехмерное поле представления, принадлежащее наблюдателю, которого мы рассматривали на первой ступени, оказывается элементом четырехмерного поля, принадлежащего наблюдателю, который появляется на второй ступени. И обнаружение этого четырехмерного наблюдателя — наблюдателя 2 или искомого конечного сознательного наблюдателя — означает, что наш «реагент» в своем сознательном трехмерном сечении О есть элемент в поле наблюдателя 2.
Далее, мы предполагали, что внимание (так мы называем всего-навсего сосредоточенное наблюдение, определяемое внешними факторами или чем-либо еще) наблюдателя 1 сфокусировано на некотором конкретном явлении в поле 1. Внимание конечного наблюдателя необходимо также считать сфокусированным на том же самом явлении. Но фокус трехмер-
[157]
ного наблюдателя 1 должен быть трехмерным, а фокус наблюдателя 2, соответственно, четырехмерным. Следовательно, трехмерный фокус наблюдателя 1 должен быть окружен четырехмерным фокусом наблюдателя 2.
Как далеко, — спросим мы, — простирается по линии рр' поле 2? От G до Н, если судить по аналогии. Однако мы решили не доверять аналогии; и я вынужден просить читателя прийти к тому же выводу, последовав за мной по более длинному пути.
Поле представления ограничено определенными состояниями мозга, которые доступны наблюдению и расположены, с точки зрения наблюдателя, перпендикулярно временному измерению. На GH, как известно, имеется одно такое доступное наблюдению состояние — состояние в точке О. Но для того, чтобы GH целиком, от начала до конца, была полем представления, должны быть доступны наблюдению и все прочие содержащиеся в ней состояния мозга.
Совершенно верно. Именно таким свойством они и обладают. Первоначально на рис. 6 (а) и б (б) мы изобразили их в виде «прошлых» и «будущих» состояний мозга, представленного на рис. 5, причем состояний, доступных наблюдению.
Но не означало ли это, что наблюдение за ними было доступно только сознательному наблюдателю, чей фокус внимания на рис. 7 (а) и 7 (б) следовал за полем 1, а сам наблюдатель испытывал указанные состояния мозга последовательно, одно за другим?
Да, означало. Но наш теперешний усовершенствованный взгляд на графики обнаружил, что на самом деле конечным сознательным наблюдателем за последовательными состояниями мозга, находящимися в полосках АА' или ВВ', является наблюдатель 2, чей фокус, окружая фокус наблюдателя 1, следовал за по-
[158]
лем 1. Поэтому оказывается, что наблюдатель 2, следя за фокусом наблюдателя 1, уже наблюдал сознательно состояния мозга (вертикальные линии), помещенные на рис. 9 слева от точки О, и вскоре аналогичным образом будет наблюдать состояния, помещенные справа. Тем самым все эти состояния должны быть доступны ему для наблюдения и располагаться, по его представлениям, перпендикулярно временному измерению. Отсюда ясно, что линия GH целиком находится в четырехмерном поле представления. Тот факт, что внимание наблюдателя по некоторым причинам следует за одной конкретной точкой в этом поле — точкой О, — ничего не меняет; поле представления не ограничено фокусом внимания (см. часть 1).
Однако не является ли поперечное сечение диагонального реагента в субстрате поля 2 промежуточным наблюдателем, в чье отсутствие наблюдатель 2 не мог бы сознательно наблюдать субстрат?
Нет, не является. Наш конечный наблюдатель — это четырехмерный наблюдатель, фокус внимания которого слегка захватывает четырехмерные участки субстрата. А наблюдатель 1 — всего лишь трехмерный наблюдатель, реагирующий исключительно на трехмерные явления. Для наблюдателя 2 он по своей способности к наблюдению вообще не является конкретной целостностью. Он — нечто вроде не имеющей толщины плоскости в мире тел и доступен для наблюдения только при условии, что тела можно наблюдать. И его наблюдения (модификации в соответствии с локальной трехмерной природой субстрата) могут наблюдаться наблюдателем 2 лишь в качестве неотъемлемой части наблюдаемых областей, имеющих на одно измерение больше.
Итак, линия GH, подобно линии CD (или C'D') на
[159]
рис. 7 (а) или 7 (б), есть поле представления. И оно, подобно полям, рассмотренным нами на первой ступени, тянется от одного конца субстрата мозга к другому перпендикулярно временному измерению. И поскольку этим свойством наделены уже два члена серии, можно видеть в нем повторяющееся отношение, характерное для каждого члена.
Для завершения второй ступени отметим стрелкой ось Т 2 в указателе измерений (рис. 9), показав, что линия GH — поле представления, движущееся во Времени 2. Теперь движение поля 1 во Времени 1 восстановлено. Ибо, раз линия GH перемещается по графику, точка О, где GH пересекается с 0'0", движется вдоль GН по направлению к Н, проходя состояния мозга последовательно, справа налево.
Наш график, изображающий второй член серии, опять служит работающей моделью и ничуть не противоречит данным рис. 8. Там точка О была точкой пересечения, движущейся вдоль GH. Наш усовершенствованный график лишь подтверждает это и дает дополнительную информацию о том, что движение точки пересечения обусловлено движением во Времени 2 линии GH, причем GH оказалась полем представления, невоспринимаемым при чрезмерно суженном взгляде, предлагаемом нам на рис. 8. В точке О по-прежнему находится наш трехмерный движущийся во Времени 1 наблюдатель, однако теперь он оказывается всего-навсего сечением — сознательным сечением своей собственной временной протяженности вверх и вниз в форме диагонального реагента.
Заметим, что, в свою очередь, линия GH — движущееся поле 2 — должна быть линией, где конкретное существо — наблюдатель 2 — пересекает плоскую фигуру G'С" Н"Н'. Далее, поскольку область вокруг точ-
[160]
ки О, где наблюдатель 2 ведет сознательное наблюдение, передвигается от одного конца линии GH к другому, этот наблюдатель должен обладать способностью к сознательному наблюдению на любом участке GH. Более того, наше конечное время — время, отмеряющее движение линии GH по плоскости и точки О по GH, — является не Временем 2, а Временем 3.
* * *
Мы можем без особых проблем продолжить наш анализ и перейти к следующей ступени; но нет необходимости повторять нашу аргументацию.
Мы, разумеется, обнаружим, что время, поле представления и наблюдатель, которых на второй ступени мы считали конечными, были вовсе не конечными. Мы столкнемся со множеством конечных реальностей, имеющих большее число измерений, причем каждая из них будет сохранять свой статус «конечной» до тех пор, пока мы не поднимемся на ступень выше, — и так до бесконечности.
На рис. 10 мы изобразили три временных измерения некоего тела (объемной фигуры), данного в перспективе. Чтобы ясно обозначить перспективу, мы вынуждены были нанести воображаемые границы фигуры; но грани ее, собственно говоря, вовсе не занимают те положения, которые мы пока еще можем указать. Исключение составляют участки, отмечающие начало и конец протяженности субстрата мозга во Времени 1. Фигура не имеет никаких других границ, кроме сторон.
Время 3 показано в виде вертикального измерения фигуры. По отношению к этому времени измерения,
[161]
называемые Временем 1 и Временем, сходны с пространственными измерениями.

Плоскость G'G"H"H', т.е. горизонтальная плоскость-сечение фигуры, есть моментальный снимок рис. 9, данный в перспективе. В новом временном измерении длительности состояний мозга, представленных на рис. 9 линиями, тянущимися во Времени 2, следует изобразить при помощи продления этих линий во временное измерение 3 так, чтобы они образовывали плоскости, располагающиеся наподобие поджаренных ломтиков хлеба in a rack (однако изображение их перегрузило бы график). Тогда наш первый реагент — линия O'O" — будет длиться (тянуться) во Времени 3 в виде плоскости, делящей фигуру по диагонали, иначе говоря, плоскости ABCD.
[162]
В «настоящем» состоянии рис. 9 (показано в середине фигуры) поле представления GH, которое должно обозначаться пересечением конкретного наблюдающего существа с плоскостью фигуры, находится в середине плоскости. В «прошлом» состоянии рис. 9 (нижняя плоскость фигуры) это поле, т. е. линия пересечения, находится на DE, а в «будущем» состоянии рис. 9 (верхняя плоскость фигуры) — на FB. Следовательно, реагент 2, конкретное секущее существо, располагается на наклонной плоскости DFBE, изображающей его длительность.
Пересечение этой плоскости с плоскостью ABCD есть линия DB. Новое движущееся поле представления (поле 3) есть плоскость G'G"H"H'. Поскольку плоскость поля 3 движется по фигуре, линия ее пересечения с наклонной плоскостью DFBE (линия GH) перемещается по плоскости движущегося поля 3 в направлении линии G"H". Иначе говоря, поле 2 движется во Времени 2. Между тем точка О (где пересекаются три плоскости ABCD, DFBE и G'G"H"H') перемещается по движущейся линии GH в направлении к H. Иначе говоря, поле 1 движется во Времени 1*.
* * *
Наш анализ, очевидно, можно продолжать подобным образом до бесконечности. В итоге мы получим одно-единственное многомерное поле представления
* Следует помнить, что наша объемная фигура — это графическое изображение серийных отношений и что, рассматривая движения в ней, нельзя не увидеть систему, на основе которой она была построена. Так, например, нельзя рассматривать точку О как движущуюся полиции DB, не признавая одновременно условия ее движения, а именно — того, что поле 3 движется во Времени 3. А поле 2 — во Времени 2.
[163]
в абсолютном движении — поле, движущееся по неподвижному субстрату объективных элементов, которые тянутся во всех временных измерениях. Движение этого конечного поля вызывает движение бесчисленных участков пересечения его самого с неподвижными элементами, причем участки пересечения являются полями представления с меньшим числом измерений. Далее, в бесконечности мы столкнемся со временем, отмеряющим все движения в разнообразных полях представления или движения этих полей. Это будет «Абсолютное Время» с абсолютным прошлым, абсолютным настоящим и абсолютным будущим. Настоящий момент Абсолютного Времени должен заключать в себе все моменты — «прошлые», «настоящие», «будущие» — всех подчиненных временных измерений.
Нам, заметим, никогда не удастся показать действительный путь точки О. На рис. 9 он изображен в виде линии О'О", на рис. 10 — в виде линии DB. По мере добавления все новых и новых временных измерений мы всякий раз обязаны как-то по-иному изображать его. Но наблюдателю каждого конкретного движущегося поля на конечном, полностью завершенном графике будет казаться, что путь точки О пролегает именно в его поле (например, наблюдателю поля GH на рис. 10 точка О предстанет движущейся от G к Н.)
Теперь природа серии начинает постепенно проясняться. Серия — это нечто вроде китайских коробочек, устроенных таким образом, что меньший член (коробочка) заключен в другом, ему подобном, но большем по размерам (в нашем случае имеющем на одно измерение больше) члене.
Законы серии можно легко сформулировать. Первый из них гласит:
[164]
7. Каждое движущееся во времени п-мерное поле представления заключено в (п+1)-мерном поле, движущемся в другом временном измерении, причем (п+1)-мерное поле охватывает события, которые в п-мерном поле предстают как «прошлые», «настоящие» и «будущие».
Второй закон вводит понятие серийного наблюдателя. (Этот наблюдатель, разумеется, не тождествен серии наблюдателей, существующих независимо друг от друга.)
Содержимое моментов Времени 1, как мы видели, может последовательно представляться конечному наблюдателю только при условии, что содержимое моментов Времени 2 также представляется последовательно, равно как и содержимое моментов всех других Времен в серии. Значит, конечный наблюдатель — это наблюдатель поля представления, которое движется во Времени, расположенном на том краю серии, что уходит в бесконечность. А будучи наблюдателем этого поля, он является наблюдателем и всех других движущихся полей, подчиненных и имеющих меньшее число измерений.
Далее, точка О с самого начала была для нас местом, где происходит сознательное наблюдение. Следовательно, на какую бы ступень анализа мы ни поднимались, наш конечный наблюдатель будет вести сознательное наблюдение именно в точке О. Но интересно, что ни один наблюдатель сам по себе не обладает способностью к сознательному наблюдению. Обретением ее он полностью обязан сознательному наблюдателю, стоящему в серии на порядок выше него. И вот по какой причине.
Только благодаря движущемуся сознательному наблюдателю GH, который пересекается с реагентом О'О", на линии О'О" выделяется точка О, где этот
[165]
O'O", на линии О'О" выделяется точка О, гае этот реагент способен к сознательному наблюдению. Отбросьте GH — и не будет точки О. Аналогично, на рис. 10 только благодаря движущемуся полю 3 — плоскости G'G"H"H' (совпадает с сознательным наблюдателем 3), — которое пересекается с реагентом 2 — плоскостью DFBE, — на плоскости DFBE выделяется линия GH, где этот реагент способен к сознательному наблюдению. Уберите плоскость G'G"H"H' из графика — и линия GH, содержания точку О, исчезнет. И так будет повторяться на протяжении всей серии до бесконечности. Короче говоря, отбросьте стоящего на порядок выше сознательного и последовательного* наблюдателя—и стоящий ниже него наблюдатель перестанет существовать как сознательный или последовательный, хотя диагональный реагент, совершенно ненужный и не имеющий оправдания своему существованию, бессознательный и реагирующий сразу на все, останется.
Следовательно, как все представленные для наблюдения явления в конечном счете отсылают нас к набору состояний мозга, с которых мы начали на «ближайшем» краю серии наш анализ, так и любое сознательное наблюдение, подобно любому последовательному наблюдению, в конечном счете отсылает нас к наблюдателю, находящемуся на «удаленном» краю серии, то есть к «наблюдателю в бесконечности».
(Термин «наблюдатель в бесконечности» не означает наблюдателя, бесконечно удаленного во времени или пространстве. Слово «бесконечность» лишь указывает на количество членов серии. А наблюдатель, о котором идет речь, — это просто ваше обычное, по-
* Слово «последовательный» применительно к наблюдателю означает здесь «способный к последовательному наблюдению», т.е. наблюдению событий в их последовательности (прим. пер.).
[166]
вседневное Я, ваше «здесь» и «сейчас».)
Итак, наш второй закон гласит:
Серийность полей представления предполагает существование серийного наблюдателя. В этом смысле любое движущееся во Времени п-мерное поле есть поле, явленное движущемуся аналогичным образом п-мерному сознательному наблюдателю. Наблюдение, ведущееся любым таким наблюдателем, есть наблюдение, ведущееся всеми сознательными наблюдателями, которые принадлежат к полям, с большим числом измерений, и в конечном счете наблюдение, ведущееся «наблюдателем в бесконечности».
Далее, поскольку термин «внимание» служит всего-навсего обозначением сосредоточенного сознательного наблюдения, внимание наблюдателя — к какому бы полю он ни принадлежал — должно сводиться к вниманию наблюдателей, принадлежащих к полям с большим числом измерений, и тем самым к «наблюдателю в бесконечности». Однако в каждом случае фокус внимания (область, охватываемая наблюдением определенной степени концентрации) должен иметь столько же измерений, сколько имеет сам наблюдатель и его поле. В поле 1 он трехмерен, в поле 2 — четырехмерен и т.д.
Следовательно, наш третий закон гласит:
В любом поле фокус внимания имеет столько же измерений, сколько и само поле, и является димензиональным центром фокусов внимания, находящихся во всех полях более высоких порядков, вплоть до и включая фокус внимания, находящийся в поле, лежащем в бесконечности.
Теперь посмотрим, нельзя ли из всего это что-нибудь создать.
[167]
С помощью анализа мы определили природу механизма времени, установив, что его существование неизбежно, если мы наблюдаем события в их последовательности. Сейчас нам предстоит ответить на вопрос, может ли исследование этого механизма помочь нам найти объяснение чему-нибудь еще. Ответ, разумеется, будет утвердительным.
Как это ни странно, но первого открывшегося факта я не предвидел ни в малейшей степени. С самого начала было ясно, что анализ должен выявить (1) серию полей представления, каждое из которых движется в следующем поле — поле, расположенном на порядок выше; (2) серию фиксированных диагоналей, пересекающих друг друга; и (3) серийного наблюдателя. Но я и не догадывался, что фиксированные диагонали представляют длительности наблюдавших элементов в серийном наблюдателе и что каждый из этих элементов бессознателен всюду, за исключением точки, где его пересекает поле следующего сознательного наблюдателя рангом выше. Открытие этих движущихся и строго локализованных областей сознательного наблюдения имело важное значение, ибо сразу стало понятно, что в ходе анализа механизма последовательности неожиданно для нас раскрывался во всех своих подробностях механизм сознания.
Как бы вы определили сознательного наблюдателя? То есть определили так, чтобы отличить его от бессознательного наблюдателя, скажем, фотоаппарата? Полагаю, вы начнете с трюизма, заявив, что это тот, кто осознает свои акты наблюдения. А затем вообразите, будто ваша формулировка равносильна утверждению, что он сознательно наблюдает эти акты наблюдения.
[168]
Вы тотчас понимаете, что таким путем вам не удастся объяснить феномен сознания; но вы понимаете также и то, что вас подвели к заявлению, которое абсолютно истинно и которое вы, вероятно, не сможете отвергнуть. Однако посмотрим, что оно означает. Само по себе сознательное наблюдение первичного акта наблюдения есть вторичный акт сознательного наблюдения и, согласно изложенному выше утверждению, должно быть сознательно наблюдаемо в ходе третьего акта и так далее до бесконечности. Вы пустились в описание серийного процесса, не имеющего конца. И единственный способ избежать его — вернуться к началу и... отказаться от мысли о том, что наш приятель осознает свои акты наблюдения. Тогда, хотя от вас и ускользает объяснение феномена сознания, вам станет ясно: если наш наблюдатель и может быть сознательным, то только как серийный наблюдатель, каждый член которого сознательно наблюдает акты наблюдения, совершаемые членом рангом ниже.
Трудно представить, каким образом такой серийный наблюдатель может существовать где-либо в рамках исключительно трех пространственных измерений; но, как показывает анализ, проведенный в предыдущей главе, он может очень мило существовать — и действительно существует — в многочисленных временных измерениях. Реагент 1, сознательно реагирующий на субстрат мозга в точке О, является в этой точке представлением в движущемся поле наблюдателя 2, сечением, находящемся в состоянии реагирования и сознательно наблюдаемым. Аналогично, реагент 2 на линии GH (где он ведет сознательное наблюдение в точке О) является представлением в движущемся поле наблюдателя 3 (см. рис. 10) и так далее до бес конечности.
Следует заметить, что, согласно нашему анализу, че-
[169]
ловек может быть сознательным, не осознавая себя. Действительно, строго говоря, нет такой вещи, как сознание своего Я. Возьмите из серии любого наблюдателя, изучите его и вы увидите, что наблюдатель, чьи реакции он наблюдает, всегда есть наблюдатель рангом ниже, а наблюдаемое Я — «низшее» Я. Вероятно, вывод о существовании истинного Я, или, возможно, «высшего» Я, сделали тогда, когда открыли, что некоторые явления в субстрате не относятся к категории «всеобщего достояния». Но такого рода знание должно быть приобретенным; оно не должно быть результатом наблюдения за своим Я.
Однако посмотрим, не принес ли наш анализ еще какие-нибудь плоды.
Да, кое-что есть... но это «кое-что» увлекает нас в область чистой психологии и должно рассматриваться в соответствующем ключе. Психологи всегда стремятся объяснить, каким образом получается так, что мы осознаем течение времени, точнее сказать, осознаем не просто само движение или изменение, но тот факт, что вместе с движением или изменением проходит время. В конце концов, концепция времени как длины, по которой совершается движение, достаточно изощренная; между тем, все люди — и образованные, и (что гораздо удивительнее) необразованные — единодушно признают, что именно так мы обычно и мыслим время. Ребенок на лету схватывает суть неуклюжих объяснений своей няни. Ему не нужно твердить, что «вчера» прошло, а «завтра» грядет. Но каким образом и ребенок, и мы обретаем этот чудесный кусочек знания?
Часто отваживаются выдвигать теорию о том, что внимание не ограничивается рамками математического момента, но охватывает чуть больший промежуток, иначе говоря, имеет малую протяженность во временном измерении.
[170]
И эта малая протяженность дана в Законе 3 нашей серии. Он гласит: фокус внимания в поле 1 есть димензиональный центр фокусов внимания, находящихся во всех полях более высоких порядков. Это означает, что фокус в поле 1 окружен некоей периферией, которая — как бы узка она ни была — охватывается вниманием наблюдателя 2. А это означает, что наблюдатель 2, чье внимание окружает и следует за вниманием наблюдателя 1 в поле 1, должен воспринимать движение наблюдателя 1 по отношению к тем стационарным (мозговым) представлениям в поле 2, которые охватываются его собственным фокусом, имеющим на одно измерение больше. Аналогичным образом наблюдатель 1 воспринимает объекты, движущиеся через его собственное трехмерное поле. Поэтому наблюдатель 2 (и также «наблюдатель в бесконечности») не только наблюдает то, что наблюдает наблюдатель 1, но и воспринимает последнего как движущегося от «прошлого» к «будущему» во Времени 1.
(Философы не преминут заметить, что «последовательность переживаний» неизбежно предполагает «переживание последовательности».)
В связи с тем, что фокус наблюдателя 1 перекрывается фокусом наблюдателя 2, уместно сделать еще одно, по-видимому, существенное замечание. Любой фокус внимания, движущийся во Времени 1, рано или поздно натолкнется на некоторые неупорядоченные явления в субстрате представленные на рис. 7 (а) и 7 (б) волнистыми линиями. По отношению к полю 1 и его фокусу эти неупорядоченные явления, наблюдаемые или ненаблюдаемые, — суть движения физических элементов в трехмерном пространстве. Однако фокус наблюдателя 2, чуть более широкий и перекрывающий фокус наблюдателя 1, вполне может охватить кусок Времени 1, содер-
[171]
жащий значительное количество таких неупорядоченных явлений. В этом случае они предстанут в виде некоей структуры (паттерна) Времени 1, расположенной на участке субстрата, охваченном фокусом наблюдателя 2. Это означает, что наблюдатель 2, чье внимание следует за полем 1, должен непосредственно воспринимать в объективном мире свойства, лежащие за пределами пространственных конфигураций и пространственных движений длящихся частиц. Тогда физическая частота предстанет в виде паттерна, иначе говоря, обнаружится как нечто конкретное. Этот факт в конечном счете может иметь формальную связь с данной наблюдателем интерпретацией частоты как ощущения. Но мы, вероятно, раскроем самую суть рассматриваемой проблемы, если скажем: то, что конечный наблюдатель должен непосредственно наблюдать, есть очень важное и примечательное свойство, известное в физике под названием «действие». Но о нем чуть позже.
Можем ли мы извлечь из нашего анализа что-нибудь еще?
Да. Мы наконец-то нашли объяснение нашему «феномену», касающемуся сновидений.
Согласно Закону 3, фокус внимания, находящийся в любом поле более низкого порядка, окружен фокусами внимания, находящимися во всех полях более высоких порядков. (Приведенная формулировка — лишь способ сообщить о том, что в конечном счете именно «наблюдатель в бесконечности» наблюдает явления в этом поле более низкого порядка.) Значит, в моменты бодрствования внимание наблюдателя 2 не блуждает туда-сюда в пределах поля 2, а следует за фокусом наблюдателя 1 в поле 1, движущемся по полю 2. А что если из-за пассивности мозга поле 1 станет — как в глубоком сне — пустым? Эта ситуация изображена на рис. 11.
[172]


Пробел в середине графика свидетельствует об отсутствии всех состояний мозга, связанных с порождением психических явлений. Тогда в момент (в Абсолютном времени), когда поле 2, т.е. линия GH, движущаяся во Времени 2, занимает указанную позицию, в поле 1 (точке пересечения линий GH и О'О") нет ничего, за чем мог бы следить наблюдатель 1. Из-за отсутствия фокуса, который имеет на одно измерение меньше и за которым можно было бы следовать, фокус внимания наблюдателя 2 становится первым членом серии концентрических фокусов. И поэтому ничто не препятствует его перемещению — под прямыми углами к его временному измерению — во всех измерениях его поля пред-
[173]
ставления GH. Иначе говоря, когда в поле 1 нет ничего, за чем мог бы следить «наблюдатель в бесконечности», его внимание будет блуждать где-то в другом месте. Именно такого рода блужданием внимания объясняются, как показано в главе XXIII, все общепризнанные феномены, связанные со сновидениями. Здесь мы лишь отметим, что, блуждая, внимание наталкивается на мозговые корреляты чувственных явлений, воспоминания и цепочки ассоциативного мышления, которые могут находиться либо в «прошлой» части Времени 1 (например, в положении а), либо в его «будущей» части (например, в положении b). В период бодрствования внимание, следуя за точкой поля 1, где движущаяся линия GH пересекается с линией O'O", уже натолкнулось на состояние мозга АА' (в положении а) и направляется к состоянию мозга ВВ' (в положении b).
Что-нибудь еще?
Да; результаты проведенного анализа великолепно согласуются с открытиями, сделанными в ходе «экспериментов наяву».
Анализ позволил нам четко разграничить представление, сводящееся к исходным состояниям мозга, и наблюдение (включает внимание), отсылающее нас к «наблюдателю в бесконечности». Поэтому неудивительно, что нам не удалось обнаружить закона, который принуждал бы конечного наблюдателя направлять свое внимание на какое-либо конкретное явление в каком-либо конкретном поле. Между тем нельзя не признать, что в моменты бодрствования внимание обычно направляется на явления, находящиеся в поле 1. С теоретической точки зрения единственное, что принуждает внимание к этому, — привычка. Теория подтверждается практикой. В ходе «экспериментов наяву», как читатель, должно быть, помнит, внимание — пока ему позволялось
[174]
легко и быстро следовать за цепочкой ассоциативно связанных образов — натыкалось исключительно на образы прошлого. Теперь причина этого ясна. Возможность быстро и легко наблюдать цепочку ассоциативно связанных образов показывает, что внимание конечного наблюдателя перемещалось в соответствии с привычкой. Но привычка удерживает его в поле 1, а в этом поле все образы относятся к прошлому. Однако привычка, как оказалось, вовсе не закон; ее можно преодолеть. Решительный отказ замечать эти с готовностью поставляемые образы позволял нам полностью прервать внимание в поле 1. И в те редкие минуты, когда это удавалось, внимание в поле 2 могло свободно, как в сновидениях, скользить по ассоциативным дорожкам, простирающимся за пределы «настоящего момента» Времени 1.
В этой главе мы ограничились рассмотрением лишь простейших положений, выводимых из нашего анализа, и теперь нам остается сделать еще одно замечание.
Абсолютно ясно, что наш серийный наблюдатель столкнется со значительными трудностями при попытке освободиться от пут сознательного существования. Действительно непонятно, как он вообще собирается справиться с этой задачей.
Субстрат, в конечном счете поставляющий содержимое его серийного поля представления, есть всего-навсего первичная протяженность во Времени 1, тянущаяся (длящаяся) в многочисленных временных измерениях. Эта протяженность во Времени 1 имеет начало и конец, причем обе эти границы учитываются и проявляются во всех протяженностях в других временных измерениях. Однако поля, перемещающиеся по протяженностям во втором и более «высоких» временных измерениях, движутся не в направлении от этих двух границ или к ним, а прямо между ними. Лишь поле 1 выпада-
[175]
ет из этой многомерной фигуры. Следовательно, смерть, иначе говоря, достижение движущимся полем границы, — вовсе не серийный элемент. Она, подобно пробелам, возникающим во сне, и различным временным неупорядоченным явлениям в субстрате, есть одно из тех характерных исключительно для первого члена свойств, которые, как отмечалось ранее, должны существовать в любой имеющей начало серии.
Разумеется, может произойти произвольный обрыв протяженностей субстрата в других временных измерениях — их может прервать какое-нибудь божество. Но при отсутствии такого вмешательства субстрат, как явствует из анализа, сохраняется до бесконечности во всех временных измерениях, за исключением первого. Ибо в прочих измерениях он не обладает теми свойствами, которые во Времени 1 указывают на возможный в будущем разрыв протянувшихся во времени линий.
Итак, наблюдатель 1 является, по-видимому, единственным смертным наблюдателем.
* * *
Читатель, надеюсь, отметит, что изложенные выше принципы сериализма выведены не из эмпирических доказательств нашего «феномена», связанного со сновидениями, а получены в ходе прямого анализа того, что с логической точки зрения должно быть свойством любой вселенной, в которой время имеет длину, а события переживаются последовательно.
Таким образом, доводы в пользу нашего «феномена» двоякого рода — логические и эмпирические. И в этой книге ход исследования мог бы быть иным. Мы могли бы начать с анализа того, что означает факт пережива-
[176]
ния событий в их последовательности, а по завершении анализа указать на вероятность нашего «феномена» — вывод, надо признаться, очень тривиальный по сравнению с по-настоящему важными открытиями. Затем мы могли бы описать эксперименты, проведенные с целью проверить правильность этого вывода. В результате мы получили бы научный отчет, составленный в традиционной манере.
Однако наш случай — особенный. Ибо очевидно, что, хотя «наблюдатель в бесконечности» ничуть не величественнее и не трансцендентальнее нашего собственного крайне невежественного Я, он все же начинает выглядеть устрашающе, как полностью развившаяся «animus». В части I мы уже отмечали, что вера в animus, по-видимому, зародилась в процессе изучения сновидений. Припоминая свои сны, дикари и малообразованные люди могли додуматься лишь до мысли о том, что сновидения переносят их в сферу существования, ничуть не похожую на обыкновенную, будничную жизнь, которую они ведут, находясь в бодрствующем состоянии. Их верование сочли ребяческим и абсурдным. Будь это на самом деле так, пришлось бы признать, что идея души имеет сомнительное прошлое.
Вот почему мне показалось уместным сначала вызвать дикаря на суд и эмпирически доказать, что порой его сновидения действительно дают ему, его «ясновидящим» и его «прорицателям» веские основания для веры в то, что сфера сновидений есть нечто, совершенно отличное от сферы яви, и что его высшее Я обладает определенной степенью свободы во временном измерении — свободы, недоступной бодрствующему человеку.
Поэтому доказательства, изложенные в части IV, могут быть оценены по достоинству.
[177]
Поскольку всякое наблюдение есть наблюдение, ведущееся «наблюдателем в бесконечности», всякое мышление в поле 1 (автоматическое переживание последовательности состояний мозга, расположенных во Времени 1) есть мышление именно этого не всегда ясносознающего индивидуума. Но является ли такое обозрение поля 1 единственно доступным для него родом мышления? И всегда ли то, что представлено в данном поле, столь автоматично, как мы предполагали в ходе нашего анализа?
Допустим, что неконечный наблюдатель (ваше обычное, повседневное Я) наблюдал в поле 2 (линия GH на рис. 12) образ b, относящийся к состоянию мозга bb' (вертикальная линия), которого пока еще не достигла точка пересечения линий GH и О'О". Иначе говоря, вы увидели во сне будущее событие. Затем, через один-два дня, когда поле 2 передвинулось на G"H", вы пережили это событие наяву. Далее представим, что после того, как вы увидели ночью вещий сон, утром следующего дня, когда поле 2 передвинулось еще только на G'H', вы, руководствуясь некими — благими или дурными — мотивами, записали свое сновидение на листе бумаги.
Очевидно, что след, оставленный в памяти переживанием во сне состояния мозга bb', не относится к состоянию мозга сс', где находилось поле 1 — точка О — в момент записи сновидения. Значит, если рассуждать предельно логично, этот след должен быть где-то в другом месте.
Таким образом, акт записи сновидения на основании воспоминания о нем есть прямое вмешательство в
[178]
автоматическую последовательность мозговых событий, совершавшихся во Времени 1. (В главе XXIV мы рассмотрим вопрос о том, как отразится подобного рода вмешательство на нашем графике.) А процесс рассуждений, позволяющий вам выбрать значимые для вашего интеллектуального исследования детали воспоминания о сновидении (причем само воспоминание не находится в поле 1), не может быть простым обозрением состояний мозга, расположенных в поле 1.


Итак, по указанным выше причинам мы обязаны разрешить вам воспользоваться запечатленными в памяти следами и интеллектуальным снаряжением со-
[179]
всем иного рода, иначе говоря, добавочными и ненаблюдаемыми в поле 1.
Что можно узнать о них?
Давайте посмотрим, что происходит в момент засыпания.
Ваш фокус внимания становится четырехмерным и наталкивается на четырехмерные представления — представления, охватывающие не отдельные моменты Времени 1, а целые его периоды. (Для сновидящего Время 2 есть, разумеется, конечное время.) Эти расположенные в поле 2 представления включают в себя чувственные явления, воспоминания и цепочки ассоциативного мышления, относящиеся к вашей обычной повседневной жизни. Однако все они воспринимаются вами как более или менее (в зависимости от степени концентрации вашего фокуса) протяженные во Времени 1. Наблюдаемый же субстрат, как всегда, стационарен. Видимость движений в трех пространственных измерениях можно создать по аналогии с тем, как возникает видимость движений в поле 1, когда вы бодрствуете, т.е. за счет перемещения фокуса внимания в направлении Времени 1 — но при непременном условии, что четырехмерный фокус способен сжиматься в данном измерении до размеров, не слишком превосходящих те размеры, которые он имеет тогда, когда в часы бодрствования следует и концентрируется вокруг подлинного трехмерного фокуса в поле 1.
Однако если наблюдатель 1 бездействует, как то бывает в сновидениях, движущийся трехмерный фокус не может служить ориентиром; и при отсутствии такого движущегося и позволяющего концентрироваться объекта вам довольно трудно удерживать ваш четырехмерный фокус концентрирующимся практически ни на чем во временном измерении 1 и неуклонно перемещающимся в этом направлении.
[180]
Ссылка на вашу способность к концентрации, разумеется, свидетельствует о том, что вы есть нечто большее, чем абсолютно пассивный наблюдатель; признав за вами способность вмешиваться в ход событий, мы едва ли можем отказать вам в способности к концентрации внимания, которая непременно должна быть задействована при осуществлении такого вмешательства.
Изложенное выше очень точно объясняет свойства непосредственно наблюдаемых в сновидениях явлений. На протяжении всего сновидения вы пытаетесь интерпретировать приснившуюся сцену как последовательность трехмерных видов, аналогичных тем, которые вы воспринимаете в поле 1. И слишком большая протяженность во Времени 1 вашего фокуса постоянно подводит вас. Нет ничего неподвижного, на чем могло бы задержаться внимание. Все находится в текучем состоянии; ибо ваш взгляд постоянно охватывает и «то, что было незадолго до», и «то, что будет сразу после» искомого момента Времени 1. Из-за ваших всегда обреченных на неудачу попыток удерживать фокус сконцентрированным сюжет сновидения разворачивается как серия разрозненных эпизодов. Например, вы отправляетесь в путешествие и оно неожиданно заканчивается. Вы упорно пытаетесь удерживать внимание перемещающимся в направлении, привычном для вашего бодрствующего и наблюдающего сознания, т.е. в направлении Времени 1. Но ваше внимание постоянно расслабляется. И когда вам удается вновь сузить внимание, оно нередко оказывается сфокусированным не на том месте, и вы опять наблюдаете какой-нибудь уже виденный эпизод сновидения. Вы начинаете отслеживать то, что вы — будь вы в бодрствующем состоянии — опознали бы как цепочку
[181]
ассоциативно связанных образов; но в середине путешествия ваше внимание чуть-чуть расслабляется, и тогда сразу вслед за первым образом из цепочки вы вполне можете увидеть заключительный образ. В результате получается тот удивительный сплав ассоциативно связанных, но (на самом деле) разделенных несколькими звеньями образов, который известен (см. часть 1) как «интеграция». Так что войти в дом, не проходя через двери, есть, разумеется, одно из банальнейших событий в четырехмерном мире.
Впрочем, крайне редко ничто не нарушает ваш сон. Ваш мозг то и дело возбуждается, реагируя на какой-нибудь случайный поток нервной энергии, означающий, что поле 1 натолкнулось на нечто доступное наблюдению. Тотчас внимание (1, 2 и т.д.) фокусируется на этом месте. Но когда внимание 1 снова исчезает, а поле 1 снова попадает в пустое пространство, среди поставляемых сновидением образов возникает четырехмерный образ, центром которого только что был образ, относящийся к полю 1. Происходящее здесь аналогично моменту засыпания. Более того, в данном случае воспринимаемые в поле 1 телесные ощущения, например, боль или холод, смешиваются с подлинными сновиденческими образами, поскольку внимание в поле 1 то появляется, то исчезает. Но стоит вниманию задержаться на подобного рода ощущениях, как вы обнаружите, что проснулись.
Примечательно, однако, что если в некий конкретный момент Абсолютного Времени вы не испытываете в поле 1 боль или острое телесное ощущение, к возникающим в сновидении образам никогда не примешается боль или телесное ощущение — и это вопреки тому, что ваше внимание движется по прошлым и будущим состояниям мозга, которые были или будут
[182]
связаны с отчетливым ощущением вами реального физического дискомфорта.
За объяснением этого факта далеко ходить не надо. Хорошо известно, что интенсивность телесных ощущений в значительной мере зависит от степени концентрации внимания. Например, солдат в бою часто не ведает, что ранен; состязаясь в беге, вы не замечаете, что у вас разболелся зуб; слабая боль исчезает, если направить внимание на резкую боль. Между тем стоит вам сосредоточиться хотя бы на малейшем ощущении дискомфорта, как оно начнет усиливаться и в конце концов покажется вам просто непереносимым. Итак, мы предполагаем, что при отсутствии движущегося и выступающего в роли ориентира трехмерного фокуса поля 1 все прочие фокусы сосредоточенного внимания становятся менее сконцентрированными. Вот почему в сновидениях — в настоящих сновидениях, возникающих во время ничем не нарушаемого сна — вас никогда не ослепляют яркие солнца, не оглушают громкие звуки, не раздражают неудобные одежды; вы никогда не обжигаетесь, не замерзаете и не устаете. Хотя сновидения и кажутся достаточно реальными, они, однако, лишены всех тех неприятных свойств реальной жизни, которые порождены интенсивностью; в сновидениях мы едва осознаем, что у нас есть тело.
Согласно современным воззрениям, боль есть ощущение, отличное от других ощущений, например, света или звука, и ее появление обусловлено наличием особого нервного механизма. Теперь мы не вправе путать боль с ощущением дискомфорта, сопровождающим чрезмерное раздражение органов чувств. Так, глазная боль есть нечто иное, чем ощущение, вызванное чрезвычайно ярким светом. Современный взгляд на данную проблему можно сформулировать следую-
[183]
щим образом: боль — это скорее самое неприятное из всех ощущений, нежели чувство неприятности. И для боли, как и для других ощущений, имеется свой предел воспринимаемости. Мы можем видеть цвета лишь определенной степени яркости или тусклости. Точно так же мы ощущаем боль лишь определенной степени интенсивности. Это ясно любому экспериментатору. Кстати, заметим, что проблема, связанная с потерей сознания в момент, когда интенсивность боли достигает некоторого предела, была камнем преткновения для средневековых истязателей. Однако чрезвычайная неприятность боли и ее способность частично отвлекать внимание от других ощущений вовсе не означает, что спектр ее доступной наблюдению интенсивности — от едва осязаемой до абсолютно нестерпимой — велик. Очевидно, что этот спектр — в отличие от цветового спектра — не содержит огромного множества отчетливо различимых градаций. И тот факт, что наблюдателю, использующему расслабленный фокус поля 2, «страны грез», боль вообще не явлена, может просто означать, что спектр доступной наблюдению интенсивности этого неприятного и подавляющего нас феномена значительно уже спектра доступной наблюдению интенсивности ощущения света.
Далее отметим, что в сновидении вы думаете о нем точно так же, как вы думаете о своих чувственных переживаниях, находясь в бодрствующем состоянии. Вы оцениваете важность приснившегося, строите наивные планы разрешения возникающих в сновидении ситуаций, вспоминаете предыдущие эпизоды сновидения. Именно это добавочное, не относящееся к полю 1 мышление и припоминание мы и пытаемся исследовать.
Опрометчиво утверждать, что такого рода мышле-
[184]
ние есть во всех смыслах мышление ребенка, ибо оно предполагает оперирование понятиями, взятыми из жизни взрослых, например, политическими идеями. Но нельзя не признать, что это чрезвычайно тонкий тип мышления по сравнению с тем, которое сопутствует обозрению последовательно сменяющих друг друга состояний мозга в поле 1. И все же оно явно сродни нашим размышлениям наяву. В его основе, как мы видели, лежит идея о том, что восприятие последовательности трехмерных видов есть единственно возможный метод наблюдения; оно игнорирует «то, что было незадолго до» и «то, что будет сразу после «искомого момента Времени 1, объясняя все это неустойчивостью наблюдаемых явлений; оно запоминает прошлые эпизоды сновидения так, будто они трехмерны, и принуждает внимание — если оно сконцентрировано — перемещаться в привычном направлении Времени 1, хотя для нашего мыслителя время располагается перпендикулярно этому измерению.
Разумеется, все это выясняется благодаря наблюдению за воспоминаниями о сновидении сразу после пробуждения, а не за самим сновидением. И обозревает воспоминания вовсе не наблюдатель 1. В его поле их нет. После пробуждения вы припоминаете то, что вам приснилось, и то, что вы думали во сне по поводу приснившегося, без помощи наблюдателя 1.
Рассмотрим некоего воображаемого, абсолютно автоматического наблюдателя 2, чье мышление и припоминание полностью аналогичны мышлению и припоминанию, характерным для нашего исходного наблюдателя (первого члена серии). В памяти этого гипотетического сверхсущества должны были бы быть запечатлены следы, протянувшиеся по ассоциативной сети перпендикулярно Времени 2. Его мышление
[185]
заключалось бы в блуждании внимания по этому ассоциативному сплетению — блуждании туда-сюда в пространстве и взад-вперед во Времени 1. Это было бы прославленное четырехмерное мышление, в рамках которого Время 2 — единственно явное временное измерение, а четырехмерный взгляд на субстрат — естествен и очевиден. Такого рода наблюдатель, должно быть, осознавал бы, что все четырехмерные объекты состоят из бесчисленного множества трехмерных сечений; но он никогда не воспринимал бы или не пытался бы воспринимать, как мы то делаем в сновидениях, какое-нибудь одно из сечений как единственно существующее, а все другие — как неустойчивые и сбивающие с толку дополнения.
Свидетельства о блуждании в сновидениях внимания подлинного наблюдателя 2 — свидетельства, позволяющие вам припомнить эти сновидения — должны быть следами, протянувшимися в четырех измерениях (Времени 1 и трех обычных пространственных измерениях). И где бы ни находились эти следы — в субстрате ли мозга, в движущемся ли во Времени наблюдателе 2 (четырехмерном существе, отличном от субстрата, по которому оно движется) или в каком-то другом месте,— они неизбежно образуют нечто вроде ассоциативной сети.
Итак, мы столкнулись с наблюдателем, который действительно обладает ментальным структурным снаряжением, приспособленным для восприятия представлений, в их четырехмерной целостности, но который при этом все же пытается рассматривать подобного рода представления в качестве трехмерных явлений.
Следовательно, в отсутствие наблюдателя 1 ваше мышление предполагает нечто большее, чем просто
[186]
обозрение четырехмерной ассоциативной структуры. Оно предполагает интерпретацию этой структуры.
Теперь начинает казаться, что профессор Макдугалл был прав в одном частном, но важном вопросе. Вся его аргументация в пользу существования души сводится к утверждению: Макдугалловские «значения» суть интерпретации душой того, что мозг представляет посредством образов. Однако принять точку зрения Макдугалла во всей ее простоте для нас было бы затруднительно. Ведь выдвинута и прямо противоположная теория — слишком сильная и рациональная, чтобы ее игнорировать. Лучше всего, по моему мнению, она выражена профессором Дж.С. Муром. Он заявляет, что «Значение есть контекст» и что значение какой-либо специфической идеи есть просто-напросто периферия, состоящая из ассоциативно связанных идей, которые и образуют этот контекст.
С позиций сериализма, Мур, пожалуй, прав, но и Макдугалл не совсем ошибается.
Если значение задается контекстом — сопутствующими ассоциациями, — то оно должно задаваться периферией частично расслабленного внимания. Это подтверждается таким фактом: когда наше внимание сильно сконцентрировано на каком-либо объекте, мы замечаем качество и форму этого объекта, но игнорируем его значение. Далее, согласно нашей теории, когда внимание наблюдателя 2 окружает и следует за вниманием бодрствующего наблюдателя 1, оно удерживается сконцентрированным во временном измерении 1, и изменение степени концентрации происходит главным образом в трех пространственных измерениях. Поэтому для бодрствующего наблюдателя контексты суть преимущественно отношения между пространственным положением и пространственным дви-
[187]
жением. То же самое, разумеется, можно сказать и о значениях, которыми он наделяет то, что воспринимает. Контексты, поставляемые слегка перекрывающей фокус 1 периферией внимания в четвертом измерении, выявляют движение наблюдателя 1 во времени и намекают на наличие в субстрате паттерна Времени 1.
Все изложенное выше великолепно согласуется с предложенным Муром определением.
Для нашего воображаемого автоматического наблюдателя 2, мыслящего — в отсутствие наблюдателя 1 — четырехмерно, контексты в четвертом измерении должны были бы быть столь же ясными интерпретациями, как и интерпретации в трех обычных пространственных измерениях. Между тем для действительного наблюдателя именно эти развертывающиеся в четвертом измерении контексты и не являются ясными интерпретациями. И они неясны ему потому, что они сами неверно интерпретированы им. Вместо того, чтобы рассматривать их как ассоциативные протяженности в четвертом измерении, он рассматривает их как сбивающие с толку трехмерные неустойчивые виды. И обратные движения внимания — из «будущей» части Времени 1 в «прошлую» — вообще не замечаются. Такого рода интерпретации должны быть интерпретациями, которые даются наблюдателем соответствующих контекстуальных периферий.
Здесь уместно прибегнуть к аналогии. Предположим, что ребенок, выучился читать напечатанные на двухмерных листах ноты и привык интерпретировать изображенное как некую упорядоченность одномерных аккордов, переводя внимание с одного на другой в направлении слева направо. Читая такой нотный лист, ребенок находится в положении наблюдателя,
[188]
использующего поле 1. Теперь, развивая нашу аналогию, попытаемся представить его в положении спящего наблюдателя. В этом случае его фокус должен быть не настолько сильно сконцентрированным, чтобы в единицу времени содержать только один аккорд. Но представить такое нам затруднительно. Впрочем, мы можем преодолеть это препятствие, если вообразим, будто перед ним находится нотный лист, где аккорды изображены не отдельно друг от друга, а сгрудившимися настолько тесно, что каждый из них частично перекрывает аккорды, прилежащие к нему справа и слева. В результате оказывается, что нельзя различить ни одного аккорда. Никто не будет отрицать, что увидя перед собой этот нотный лист, ребенок попытается прочесть загадочное изображение прежним, привычным для него способом, или что привычка, принуждающая его поступать подобным образом, коренится в его уме, а не в нотном листе. Значит, привычка к трехмерной интерпретации, одолевающая нас в сновидениях, есть свойство нас самих как наблюдателей, а не характеристика наблюдаемых четырехмерных явлений. Что же касается нашей неспособности замечать в сновидениях перемещения нашего внимания назад во Времени 1, то ее вполне можно объяснить привычным для конечного наблюдателя способом интерпретации. При чтении нот ни один ребенок, переводя внимание на начало новой строки, никогда не наблюдает то, что уже прошло перед его взором. Да и вы сами, я надеюсь, читая слова в данной книге, множество раз переводили взгляд с правого края страницы на левый; но вы ни разу не прочли строку в обратном направлении, равно как и не заметили, каково «обратное» изображение строки. И даже если сейчас вы попытаетесь это сделать, вам все равно не удастся
[189]
увидеть «обратный» вид строки. Наиболее доступный для вас способ хоть как-то воспринять его — увидеть слово, написанное «наоборот», но все же по-прежнему слева направо, т.е. воспользоваться зеркальным способом. Привычка же, скрывающая от вас «обратный» вид, заключена не в печатном листе, а в вас самих.
Итак, мы подошли к очень интересной концепции — концепции конечного мыслителя, который учится интерпретировать то, что представлено его вниманию, причем процесс обучения состоит в том, что в часы бодрствования его внимание неустанно следует за незамысловатыми автоматическими действиями удивительнейшей детали ассоциативного механизма, именуемой мозгом.
Можно предположить, что изложенное выше есть полная противоположность анимистической концепции «высшего» наблюдателя как индивидуума, наделенного высочайшим интеллектом и с помощью грубого материального снаряжения совершающего то лучшее, на что он способен. Но мне думается, что нам никуда не деться от очевидного доказательства, которое преподносит нам сама природа нашего сновидческого мышления. Какие бы возможности обрести в конечном счете высший интеллект ни были заложены в «наблюдателе в бесконечности», они все еще ждут своей реализации. С самого начала мозг играет роль учителя, а ум — ученика. Ум вступает в борьбу за обретение собственной структуры и индивидуальности, беря за образец мозг.
На протяжении, быть может, восьмисот миллионов лет эволюция совершалась в направлении развития мозга. В наши дни профессор Маккендрик отмечает, что практически все функции нашего тела нацелены на адекватное питание серого вещества. Теперь же нам
[190]
представляется, что мозг не только осуществляет работу по самоподдержанию и самосовершенствованию, но и служит машиной для обучения мышлению эмбриональной души.
Теперь наконец мы вправе обратиться к вопросу о происхождении привычки, удерживающей внимание конечного наблюдателя сфокусированным в поле 1.
В поле 1 он вынужден иметь дело с простой последовательностью трехмерных явлений в трехмерном поле. Между тем в поле 2 он сталкивается с четырехмерными явлениями в четырехмерном поле. Вдобавок ко всему происходит удвоение этих четырехмерных явлений. Например, в точке а (рис. 11) он может найти воспоминание о каком-то предшествующем событии во Времени 1; а где-то между G и а обнаружить событие-оригинал, оставившее в памяти следы, которые и были позднее оживлены. В поле 3 субстрат (см. рис. 10) заполнен пятимерными явлениями, содержащими в себе, однако, лишь то, что уже представлено в простой четырехмерной форме в поле 2; но из-за меньшей степени концентрации фокуса эти явления менее интенсивны, чем явления, представленные в поле 1 или поле 2. И чем дальше мы продвигаемся по нашей серии, тем менее умопостигаемыми и менее живыми делаются представления.
Итак, для ребенка именно в поле 1 явления впервые становится различимыми. И его внимание задерживается там, где есть что-то, доступное наблюдению.
Нам известно, что даже в пределах поля 1 внимание взрослого человека может быть либо привлечено чем-то извне, либо направляться чем-то изнутри. И научиться отвлекать свое внимание от притягивающего его объекта — весьма болезненный процесс, который необходимо освоить еще на школьной скамье. Итак,
[191]
внимание ребенка отдано во власть объектов притяжения. Между тем нам известно, что сильнее всего привлекают внимание грубые телесные наслаждения и физическая боль. Они же существуют только в поле 1. Следовательно, боли отводится не только чисто физиологическая роль.
Наконец, ребенок достаточно быстро усваивает, что в поле 1 он может вмешаться в ход событий, чтобы доставить себе эти наслаждения и избежать боли. И очень скоро это становится главной целью человека.
* * *
Просматривая предыдущие разделы этой главы, мы понимаем, что конечный ум — ум, умеющий оценивать лишь самые элементарные виды в том сложном структурном снаряжении, которое имеется в его распоряжении, — всегда должен выставлять себя как нечто внешнее по отношению к любой концепции своей структуры — концепции, которую мы можем попытаться сформировать.
* * *
В части 1 данной книги мы всячески избегали отвечать на вопрос: следует ли приписать направление внимания изнутри конечному наблюдателю или чисто автоматическим процессам, происходящим внутри мозга. Мы довольствовались замечанием о том, что если мы рассматриваем конечного наблюдателя как агента, ответственного за свои действия, мы должны признать за ним статус animus, наделенной способностью
[192]
вмешиваться в ход событий, ибо концентрация внимания оказывает, как известно, примечательное воздействие на образование в памяти следов.
Однако, дабы обезопасить беспечного мыслителя от возможных ловушек, лучше все же показать, что такое направление внимания, такое вмешательство следует приписать «наблюдателю в бесконечности».
В действительности вопрос формулируется так: должно ли внимание в любом из полей более высокого порядка непременно совпадать с некоей характеристикой в субстрате, аналогичной «максимальному потоку мозговой энергии» в поле I?
В ходе нашего исследования мы не обнаружили никакого закона, принуждающего внимание направляться на какое-либо конкретное явление в каком-либо конкретном поле. Проведенный нами анализ позволил нам резко разграничить внимание, сводящееся к «наблюдателю в бесконечности», и то, что представлено вниманию, иначе говоря, содержимое субстрата. «Максимальный поток мозговой энергии» или нечто подобное в любом поле более высокого порядка есть характеристика субстрата и в качестве таковой безусловно отличается от «фокуса внимания». Теоретически можно отграничить одно от другого. А «эксперимент наяву» показывает, что теоретическое разграничение есть практическое, реальное разграничение, а не мелочный педантизм метафизика. Ведь в «эксперименте наяву» одно присутствует, а другое отсутствует.
Есть большая разница между условиями проведения «эксперимента наяву» и условиями, данными в сновидении. В первом случае прекращение внимание в поле 1, высвобождающее внимание в поле 2, не сопровождается прекращением поддерживаемой телом мозговой активности. Глаза могут оставаться открытыми,
[193]
транслируя мозгу раздражения, вызываемые попаданием света различной степени интенсивности на различные участки поля зрения. На ушные перепонки могут обрушиваться шумы различной степени громкости. Мозговая активность потоком устремляется по ассоциативным дорожкам, поставляя множество ассоциативно связанных образов, от которых внимание следует решительно отвлечь (в этом, как мы видели, и заключается смысл «эксперимента наяву»).
Итак, теоретическое различие между фокусом внимания «наблюдателя в бесконечности» и любой линией в субстрате, по которой оно может по привычке следовать, есть реальное различие, а значит, у фокуса всегда имеется возможность отделиться от любой такой линии. Но когда фокус и линия совпадают, «наблюдателя в бесконечности» необходимо рассматривать как соучастника — активного или пассивного — этого совпадения.
Учитывая вышесказанное, мы, разумеется, должны признать, что «наблюдатель в бесконечности» есть индивидуум, потенциально способный реализовывать то, что называется «свободной волей»*; но насколько развита у него эта способность — совершенно другой вопрос.
Теперь нам абсолютно ясно, что он может направлять и действительно направляет внимание в поле 1. Однако контроль, осуществляемый им в поле 2, равно как и понимание им этой сферы, похоже, ограничен. Впрочем, нужно отметить, что в сновидениях его рудиментарный интеллект чрезвычайно активно интерпретирует то, что он наблюдает. (И поистине он, как я уже подчеркивал, является искуснейшим лжеинтерпретатором.) Он, как известно, использует функцию
* Под свободной волей вовсе не подразумевается нечто, осуществляемое без каких-либо мотивов.
[194]
интерпретации для того, чтобы из разнообразнейших представлений, на которых фокусируется его внимание, сплести сюжет сновидения — историю своих собственных похождений. Умея направлять свое внимание на все в этом поле, он может изменять ход событий; он действительно может так выстроить сюжет, чтобы доставить себе удовольствие; имеющийся у него материал практически неисчерпаем. Потенциально он, как мы убедились, способен осуществлять такой контроль, и на основании моего личного опыта я склонен думать, что в небольшой степени он делает это и его способности в этом плане возрастают по мере практики. Взрослые, полагаю, не настолько полно находятся во власти снов, как дети, и временами могут (лично я, несомненно, могу) изменить неприятную ситуацию.
Однако все эти проблемы — удел психоаналитика. Впрочем, научившись интерпретировать протянувшиеся в четвертом измерении контексты как «настоящие» («present») целостности, иначе говоря, мыслить четырехмерно и управлять перемещениями нашего внимания, мы, вероятно, нашли бы поле 2 более интересным, чем поле 1. Но такое расширение границ понимания и развитие способности к контролю вряд ли свершится, если в течение 19 из 24 часов продолжать практиковать трехмерное внимание в поле 1.
Мы должны жить, прежде чем обретем контроль или интеллект. Мы должны спать, если не хотим в момент смерти оказаться абсолютно чуждыми новым условиям. (Кстати, универсальность сна — примечательнейшая черта плана Природы.) И мы должны умереть, прежде чем сметь надеяться раздвинуть границы своего понимания.
[195]
Теперь рассмотрим ситуацию, изображенную на рис. 13. Когда (в Абсолютном Времени) поле 2 находится на линии GH, субстрат между а и Н содержит некую упорядоченную конфигурацию трехмерных состояний мозга, относящихся к «будущей» части Времени 1. Представим себе, что в этот самый момент наш конечный мыслитель, т.е. существо, наблюдающее за сновидениями и, значит, наблюдающее поле 2 как «настоящий» момент, наблюдает одно из упомянутых выше «будущих» состояний мозга, обозначенное нами буквой b'. После пробуждения, когда поле 2 находится налинии G'H', а поле 1 — в точке О, наш мыслитель вмешивается в ход событий в этой точке. Его вмешательство, по нашему предположению, осуществляется благодаря припоминанию им своего сновидения; аналогичным образом каждое слово, написанное мной в этой книге, есть вмешательство, осуществленное благодаря моим воспоминаниям о сходных сновидениях. (Наш график, заметим, пригоден для иллюстрации результатов акта вмешательства, которое порождается любым другим видом деятельности частично тренированного ума конечного наблюдателя.) Далее необходимо указать, что акт вмешательства может радикально изменить некоторый отрезок будущего жизненного пути наблюдателя 1. Например, вместо того, чтобы сесть в экспресс до Саутгемтона, он садится на поезд до Дувра. В результате может оказаться, что он будет обезглавен русскими властями вместо того, чтобы быть побитым дубинкой нью-йоркского полицейского. Итак, он может никогда и не натолкнуться на мозговое событие, представленное линией bb' — событие, увиденное во сне, — но вместо это-
[196]
го пережить совершенно иное событие в момент, когда поле 2 будет находиться на линии G"H".
Впрочем, в жизни обычного цивилизованного человека вмешательство редко оказывает серьезное воздействие на его будущее. Мы слишком увязли в повседневной рутине. Обыватель в понедельник может купить билет на субботний дневной спектакль и в последующие несколько дней совершать множество мелких актов вмешательства; однако они не обязательно помешают ему занять в субботу свое место в зрительном зале или увидеть на сцене эпизод, приснившийся ему в ночь с понедельника на вторник.
Таким образом, вмешательство в точке О может изменять одни события, находящиеся между О и Н', и оставлять без изменения другие. Изобразив изменения в виде разрывов (прямо над ОН') вертикальных линий, мы получим следующую картину:

[197]
Заметим, что разрывы вертикальных линий надо рассматривать не как неизменные характеристики субстрата, существовавшие (в Абсолютном Времени) до того, как наблюдатель 1 достиг точки О, но как изменения, происходящие в субстрате именно в момент, когда (в Абсолютном Времени) наблюдатель достигает данной точки. Это означает, что на рисунке разрывы представлены как происшедшие благодаря вмешательству и явившиеся следствием интерпретации, которую конечный мыслитель дал событию, воспринятому им в сновидении в точке b'. (В предыдущей главе мы убедились, что такого рода интерпретация не может быть представлена как какой-либо контекст или след в субстрате.) Рассматривать же разрывы как предсуществовавшие (в Абсолютном Времени) устойчивые образования в карте времени, по которой совершается движение, означало бы, что конечный мыслитель натолкнулся бы на новое (т.е. измененное) событие независимо от того, видел ли он во сне прежнее (т.е. еще не претерпевшее изменений) событие или нет, иначе говоря, разрывы не явились бы результатом сновидения.
Из предыдущей главы мы узнали, что все перемещения внимания требуют либо пассивного согласия, либо активного вмешательства со стороны «наблюдателя в бесконечности». В случае, если такое перемещение предполагает отвлечение внимания от той линии в субстрате, которая изображает максимальный поток мозговой энергии, мы имеем дело с активным вмешательством, сопровождаемым изменениями в субстрате, аналогичными изменениям, показанным на рис. 13. Однако, учитывая тот уровень интеллекта, который демонстрирует осуществляющий вмешательство индивидуум, когда его мозг спит и не исполь-
[198]
зуется им как вспомогательное средство при размышлении, вряд ли можно утверждать, что его вмешательство в происходящие в мозгу мыслительные процессы предполагает нечто гораздо большее, чем настойчивое требование, чтобы этот механизм (т.е. мозг) работал в соответствии с каким-то своим предназначением. Действительно, вмешивающееся существо подобно не музыканту-профессионалу, сочиняющему произведения с помощью пианино, а увлеченному исполняемой на пианоле музыкой дилетанту, чье вмешательство в сложную игру этого инструмента сводится к замене перфорированных лент.
Тот факт, что изменение в субстрате происходит мгновенно (в Абсолютном Времени) по всей линии ОН', достаточно очевиден, если рассмотреть результаты вмешательства с точки зрения более привычной для нас трехмерной философии. Если вы предпринимаете определенный шаг для предотвращения какого-либо вероятного события, степень вероятности этого события (каким бы отдаленным оно ни было) меняется в тот самый момент, когда вы предпринимаете задуманный шаг. Против этого утверждения никто возражать не станет. На языке четырехмерной философии оно означает следующее: вероятность того, что наблюдатель 1 в момент (в Абсолютном Времени) достижения им точки с натолкнется на событие bb", меняется в «тот самый момент», когда он осуществляет вмешательство. «Тот самый момент» есть момент времени, которое отмеряет движение наблюдателя 1 вдоль линии О'О", т.е. Времени 3 — Абсолютного Времени применительно к данному графику. Следовательно, разрывы происходят тогда, когда (в Абсолютном Времени) наблюдатель 1 достигает точки О, иначе говоря, когда (в Абсолютном Времени) поле 2 дос-
[199]
тигает линии G'H'. Измененное течение событий между О и Н' будет на протяжении всей этой линии такой же механической последовательностью, как и прежде.
Очевидно, что изменение субстрата вдоль линии ОН' должно отразиться и на ее протяженности в виде плоскости (перпендикулярной листу бумаги), которая представляет собой длительность этой линии во Времени 3. Вместе с изменением данной линии должна измениться также и «будущая» часть плоскости, равно как и все «будущие» части, находящиеся впереди точки О во всех временных измерениях. Вот почему на наших серийных картах времени впереди точки О невозможно проследить путь, который был бы абсолютно определен на всех своих участках.
Вероятно, нет особой необходимости подчеркивать, что в нашем исследовании под конечным «наблюдателем» и конечным «мыслителем» подразумеваются наблюдатель и мыслитель, которые по завершении каждой ступени анализа остаются нерассмотренными нами, иначе говоря, индивидуум, движущийся в последнем из изображенных графически временных измерений. Они — одно и то же существо.
* * *
Автору данной книги неведомо, что думает читатель по поводу вышеизложенного. Однако теперь и он был бы рад сделать перерыв минут на десять, чтобы систематизировать огромный массив информации, полученной в ходе исследования.
Результаты анализа, по его мнению, можно сформулировать следующим образом.
[200]
Сериализм есть усовершенствованное выражение отношений между наблюдателем и наблюдаемым.
Анализ необходимо начать с рассмотрения обоих компонентов (наблюдателя и наблюдаемого) в качестве объектов по отношению к вам как мыслящему субъекту, одним словом, изобразить их на рисунке. Это означает, что вы должны принять за наблюдателя не себя, а некоего воображаемого индивидуума, который, как предполагается, подобен вам. Для краткости и благозвучия назовем его Джонсом.
Вы начинаете изучать Джонса как сознательного индивидуума. На данном этапе вам удается лишь выяснить, что он, по-видимому, может быть сознателен только в том случае, если он серийно сознателен.
Далее вы изучаете его как индивидуума, который последовательно, одно за другим, переживает все состояния того, что он наблюдает. Такой анализ требует добавить новое измерение в ваш рисунок. Теперь график имеет на одно измерение больше, чем Джонс, а Джонс предстает перед вами как сознательный психический индивидуум, движущийся во временном измерении. Но анализ пока не дает никаких указаний на то, что Джонс есть нечто большее, чем просто автомат.
На данном этапе, однако, вы замечаете, что логика вынуждает вас расширить рисунок еще на одно измерение. В результате Джонс 1 оказывается лишь объектом наблюдения для другого имеющего на одно измерение больше наблюдателя, который, впрочем, является не вами, а опять-таки Джонсом — Джонсом 2, — тогда как Джонс 1 однозначно выступает перед вами бренным автоматом, каковым его всегда и считали материалисты. Джонс 2, напротив, кажется нетленным.
Дальнейший анализ выявляет целую серию Джонсов, каждый из которых наблюдает Джонса, стоящего
[201]
на порядок ниже. Все они, за исключением первого, нетленны; и все они, за исключением последнего, автоматы. Но знаний об этом последнем Джонсе у вас еще недостаточно, чтобы высказывать какие-либо суждения.
Здесь вы делаете небольшой перерыв, желая окинуть критическим взором свою работу и, в частности, проверить, не погрешили ли вы против правил в ходе анализа. Но никакого просчета вы не находите. Вы ни разу не оплошали, пытаясь анализировать самих себя. Вы нигде не подменяли собой рассматриваемого вами объективного наблюдателя. На протяжении всего анализа вы имели дело только с Джонсом, а значит, вели честную игру.
Далее вы замечаете, что серийный Джонс серийно сознателен именно в том смысле, в каком требуется, согласно вашим первоначальным выводам касательно сознания.
Джонс между тем подобен вам. Следовательно, вы на своем собственном опыте можете проверить истинность своих открытий относительно Джонса, сделанных чисто логическим путем.
Серийный Джонс должен быть способен наблюдать свое действительное движение во временном измерении. А поскольку это в равной степени применимо и к вам самим, вы получаете ответ на вопрос: каким образом все взрослые (образованные и необразованные) и дети единодушно признают течение некоего фундаментального, но не поддающегося объяснению «времени».
Вы замечаете, что когда мозг Джонса полностью бездействует, Джонс 2 должен быть способен наблюдать образы тех событий, которые его мозг, находясь в состоянии активности, последовательно поставляет
[202]
ему. Это явление, по вашему мнению, чрезвычайно интересно. Между тем обращаясь к своему опыту, вы обнаруживаете, что когда ваш мозг явно спит, вы «видите сны» и действительно переживаете образы реальных событий.
Вы делаете еще более удивительное открытие: среди образов, воспринимаемых Джонсом в «сновидениях», должны быть образы, относящиеся к будущим реальным событиям. Вы проводите на себе эксперимент и убеждаетесь в истинности своего открытия.
В ходе анализа вы выяснили, что фокусировка внимания есть функция конечного (т.е. последнего из рассмотренных в серии) Джонса; что сфокусированное таким образом внимание есть психический элемент, совершенно отличный от той характеристики в субстрате Джонса, на которой сфокусировалось внимание; и что в природе нет закона, принуждающего внимание фокусироваться на каком-либо конкретном участке субстрата. Отсюда следует, что когда внимание сфокусировано в каком-либо месте субстрата, его фокусировка должна быть вызвана действием конечного Джонса. А если это на самом деле так, то конечный Джонс должен быть способен перемещать внимание из поля 1 в поле 2 даже тогда, когда бодрствующий мозг поставляет события Джонсу 1. Проведя «эксперимент наяву», вы убеждаетесь в правильности своих выводов.
Но раз конечный Джонс может направлять внимание, значит, он может и вмешиваться в механическую последовательность событий, чтобы изменить их. Вы проверяете истинность данного положения на собственном опыте, совершая наяву механическое действие — записываете один из своих снов о грядущем событии.
[203]
На основе изучения умственных операций, требуемых для совершения этого акта вмешательства, вы заключаете, что ваш «наблюдатель в бесконечности» должен быть способен припоминать и мыслить без помощи мозга. В этом случае припоминание и мышление должны быть явными, когда мозг спит и наблюдатель 2 обозревает упорядоченные фиксированные состояния мозга, расположенные где-то в другом месте во Времени 1, иначе говоря, видит сны. Эксперимент убеждает вас в том, что, видя сны, вы действительно думаете о них и припоминаете ранее произошедшие в них события.
Изучение наличествующего в ваших сновидениях мышления и припоминания показывает, что, хотя ваш мозг спит, вы — как конечный (в своей серии) наблюдатель — пытаетесь продолжать наблюдение и припоминание все тем же трехмерным способом, каким вы пользуетесь тогда, когда ваш мозг бодрствует и вы наблюдаете последовательность его состояний, представленных в поле 1. Вы осознаете (поскольку в сновидениях ваше внимание четырехмерно), что именно эти попытки неизбежно влекут за собой загадочную и сбивающую с толку временную неустойчивость наблюдаемых и припоминаемых образов — неустойчивость, которая должна делать возникающие в сновидениях образы гораздо менее определенными по сравнению с «образами», создаваемыми вашим воображением тогда, когда вы бодрствуете. Эксперимент подтверждает правильность ваших выводов.
На основании вышеизложенного вы вынуждены заключить, что ум конечного наблюдателя формирует себя в процессе наблюдения за последовательно представляемыми состояниями мозга, а значит, учится мыслить трехмерным способом. Отсюда явствует, что
[204]
на нынешнем этапе вашей жизни ваше мышление в сновидениях должно уступать по качеству вашему мышлению наяву (когда вы как конечный наблюдатель, наделенный способностью вмешиваться в ход событий, прибегаете к помощи мозга). Это заключение подтверждается исследованием степени ясности вашего мышления в сновидениях.
Результаты анализа убеждают вас в том, что в сновидениях — Джонса или ваших собственных — телесные ощущения должны быть гораздо менее интенсивными, чем наяву. Эксперимент доказывает истинность данного положения.
Вы находите причину того, почему конечный Джонс должен удерживать свое внимание сфокусированным на Джонсе 1 до тех пор, пока мозг поставляет Джонсу 1 хоть что-то доступное наблюдению. Именно это, как обнаруживается, делаете и вы сами.
И тут вы выдвигаете предположение — первое и единственное — касательно предмета не столь уж и существенного. Когда в том месте Времени 1, где находится Джонс 1, нет ничего доступного наблюдению, Джонс 1 перестает обеспечивать Джонса 2 движущимся ориентиром; в этих условиях, по вашему мнению, перемещения внимания Джонса 2 в поле 2, вероятно, должны быть крайне беспорядочными. Это предположение, как выясняется, полностью согласуется с вашим собственным приобретенным в сновидениях опытом.
Наконец, сформулированная вами концепция наблюдателя дает вам телеологическое обоснование случайностей рождения, трехмерной жизни, боли, сна и смерти.
[205]
* * *
Конечный мыслитель или интерпретатор — член серии, чье мышление превосходит простое наблюдение за содержимым его поля, — есть наблюдатель, который, подобно конечному времени, остается необозначенным на любом графике из нашей серии. В ее первом члене, изображенном на рис. 7 (а) и 7 (б), он предстает как наблюдатель 1; во втором члене — как наблюдатель 2, чье поле показано на рис. 9. И так далее до бесконечности. Крайне важно, что мы рассмотрели серию вплоть до ее третьего члена, ибо в противном случае нам не удалось бы полностью выявить серийное отношение. Но нет никакого практического смысла в рассмотрении более отдаленных членов. Третий член серии не содержит никаких новых отношений между наблюдателем и наблюдаемым. Продолжать анализ означало бы все дальше отодвигать конечного наблюдателя и мыслителя вместе со всеми его специфическими функциями и вводить дополнительные реагенты, реагирующие на содержимое субстрата и бессознательные всюду, за исключением того места, где их использует конечный наблюдатель для усиления остроты зрения.
Следовательно, вполне достаточно изобразить мир как мир, содержащий наблюдателя 2, иначе говоря, как поле 2, показанное на рис. 9. Такое изображение даст вам серийное отношение во всей его полноте.
[206]
(Замечание. Читателю рекомендуется пропустить эту главу, если его не интересует физика.)
Незадолго до релятивистского бума физика пережила два великих потрясения — настолько сильных, что еще не определен полностью причиненный ими ущерб. Первое потрясение связано с тем, что служившее верой и правдой на протяжении столетий понятие о материи как фундаментальнейшей из всех вещей было отброшено и подлинным основанием объективной вселенной провозглашен «электрон». Второе потрясение, вызванное открытием удивительной частицы под названием «квант», произвело еще более глубокие изменения.
Квант, по-видимому, каким-то загадочным образом соответствует реальному атому некоей физической величины, которая долго время (даже тогда, когда она мыслилась не конкретнее, чем физико-математический термин) признавалась самой фундаментальной вещью в своем роде. Эта физическая величина называется «действие», и ее не следует путать с действием в обычном смысле этого слова. Эта величина каким-то странным образом представляет собой кинетическую энергию, помноженную на время, или импульс, помноженный на пространство. Впрочем, рядовому читателю не нужно беспокоиться по поводу смысла этих крайне любопытных терминов. При современном уровне развития физики всякий, кто пытается создать ментальный образ того, что обозначается словом «действие», рискует нарваться на неприятности; и неспециалисту, натолкнувшемуся на этот термин, лучше всего условиться с самим собой, что он означает просто некую известную, но еще не идентифицированную целостность.
«Действие, — говорит профессор Эддингтон, — обычно рассматривается как самая фундаментальная
[207]
вещь в объективном мире физики, хотя ум не в силах воспринять ее из-за ее изменчивости; согласно смутным догадкам атомность действия есть всеобщий закон и появление электронов каким-то образом зависит от этого. Но дать точную формулировку теории квантов действия физикам пока еще не удалось».
Однако, если рассматривать атомы «действия» с позиций сериализма, очевидно, что их следует мыслить в виде крошечных целостностей, усеивающих, словно точки, Время 1 и длящихся во Времени 2, т. е. в виде реальных целостностей в поле 2, причем столь же реальных, как электроны в поле 1.
В физике до открытия кванта одним из величайших основополагающих обобщений считался принцип наименьшего действия. Он описывает пути, по которым будут двигаться обладающие «массой» тела, когда они переходят из одной конфигурации в другую за некоторый промежуток времени. Согласно этому принципу, путь движения будет таков, что «действие» (энергия, помноженная на количество времени) будет наименьшим в данных условиях. Следовательно, указанный принцип вполне применим для предсказаний.
Однако, есть и другая точная наука, которая может претендовать на звание предсказательной. Речь идет о чисто математической науке. Здесь, в отличие от физики, человек, занимающийся вычислениями, не располагает средствами выяснить, какие законы механических причины и следствия — если таковые вообще имеются — лежат в основе изучаемого им объекта. Поэтому он игнорирует их и делает выводы, исходя из оценки «вероятности». Физика может предсказать, каким будет в ближайшем будущем путь движения планеты, с помощью принципа наименьшего действия; столь же точное предсказание может сделать и математическая наука о «вероятности» с помощью принципа наибольшей вероятности. Эту же науку непреднамеренно использует и обыватель,
[208]
когда говорит о каком-нибудь грядущем событии:
«Шансы настолько велики, что оно непременно произойдет». Математическая наука рассматривает все будущие события как «вероятности» и сообщает вам о степени их вероятности. И когда степень вероятности свершения события так велика, что не вызывает сомнений, эта наука становится столь же пророческой, как и физика.
По мнению представителя математической науки, существует одно и только одно будущее состояние вселенной, а именно то, про которое мы, учитывая все наличные условия, можем сказать, что оно имеет «наибольшую вероятность». По мнению физика, также существует одно и только одно будущее состояние вселенной — то, про которое мы, приняв во внимание все наличные условия, можем сказать, что оно предполагает «наименьшее действие».
Поскольку обе науки говорят об одном и том же будущем состоянии вселенной, рассмотрим оба принципа, приводящих нас к одному и тому же выводу, казалось бы, совершенно различными путями. И у нас есть веские основания подозревать, что эти принципы суть лишь различные способы рассмотрения какого-то одного фундаментального принципа строения вселенной.
Делая изыскания в области математической физики, Эддингтон заметил, что и «вероятности» и «действию» присуще некое очень специфическое свойство. Отсюда следовало не только то, что «вероятность» и «действие» взаимосвязаны, но и то, что отношение между ними должно явно иметь математическую природу. Вскоре догадка подтвердилась. Математическое отношение было найдено без помощи этих принципов. Но когда Эддингтон применил его для математического выражения обоих принципов, он обнаружил, что на самом деле оно превращает принцип наибольшей вероятности в принцип наименьшего действия, и наоборот. Таким образом, принципы оказались просто различными спосо-
[209]
бами выражения одного и того же фундаментального факта.
Подводя итог, Эддингтон отождествляет «действие» с тем, что называется «функцией» «вероятности». «Действие, — полагает он (читая приводимую цитату, читатель не должен тревожиться по поводу своих познаний в области математики), — есть минус логарифм статистической вероятности состояния существующего мира». («Существующего» означает «существующего в данном конкретном месте времени безотносительно к тому, находится ли это место в настоящем, прошлом или будущем».)
Читатель может ничего не смыслить в логарифмах, но он все же способен понять, что вероятное «состояние мира», которое предсказывается в приведенной выше цитате, не есть вероятное состояние «действия». В противном случае в предложении утверждалось бы, что «действие» есть минус логарифм статистической вероятности своего собственного состояния! Тогда какого рода мир подразумевает Эддингтон под «существующим миром», если это не мир «действия»? Ответ может быть только один (поскольку эддингтоновское отождествление предполагает, что «действие» рассматривается как самая фундаментальная целостность): это мир, который состоит из целостностей, менее фундаментальных по сравнению с «действием».
Внеся ясность в этот вопрос, мы вправе перейти к рассмотрению того, что означает упомянутое выше отождествление, будучи выраженным не на языке математики.
Прежде всего, мы не должны забывать, что Эддингтон пишет как сторонник теории временного измерения, и для него единицы действия суть целостности, существующие в позитивной, настоящей (present) вселенной. Между тем термин «вероятности» употребляется в науке, для которой время есть просто абстракция. Следовательно, «вероятные» будущие конфигурации, изучаемые
[210]
этой наукой, суть конфигурации неких целостностей, принадлежащих к миру с меньшим — по сравнению с миром Эддингтона — числом измерений.
Таким образом, отождествление примиряет две науки, одна из которых имеет дело с вероятными конфигурациями трехмерных целостностей, а другая — с существующими конфигурациями целостностей с большим числом измерений. А это означает следующее: всякий раз, когда мы (мысля в терминах трехмерной науки) допускаем наличие в «будущей» части воображаемого времени событий, имеющих максимальную степень вероятности, мы должны (мысля в терминах любой науки, признающей временное измерение) допускать наличие в настоящем (present), существующем временном поле единиц действия (реальных конфигураций более фундаментальных целостностей), упорядоченных таким образом, чтобы удовлетворять условию наименьшего действия.
Теперь нам ясно, что заявление о «вероятных конфигурациях» касается того, что мыслилось бы в виде «вещей» физиком, который считает наше поле 1 своим настоящим (present), существующим миром. А заявление о соответствующем «действии» касается того, что рассматривалось бы в виде вещей физиком, который считает некое поле более высокого порядка в нашей серии настоящим (present), существующим миром.
Субстрат, исследованный нами в предыдущих главах, очень прост по своему типу: он разрастается лишь за счет непосредственного добавления новых временных измерений. Между тем все сложные компоненты сериализма, изображенные на наших графиках, — системы наблюдателей, полей, реагентов — имеют чисто психическую природу. Если отбросить гипотезу об атомности действия, наш субстрат предстанет как некий многомерный континуум. Его можно описать следующим образом. Атомы вещества или, скажем, электроны, разделенные между собой в пространстве, тянутся во Времени 1 в виде непрерывных ми-
[211]
ровых линий, которые, в свою очередь, тянутся во Времени 2 в виде мировых плоскостей. На этот континуум мы должны наложить (что мы и сделали) систему движущихся полей, имеющую психическую природу. В результате мы получаем все главные составляющие сериализма, суть которого мы пытаемся изложить в данной книге. Но если мы допустим существование атомов действия более фундаментальных, чем электроны, то мы уже не сможем рассматривать содержимое поля 2 как просто протянутое во времени содержимое поля 1, поскольку конфигурация атомов действия предполагает временную атомность, что не только разрывает предполагаемые мировые линии, но и превращает их в потоки атомов, более фундаментальных и имеющих больше измерений, чем атомы поля 1. Впрочем, такого рода модификация не аннулирует результаты, полученные нами в предыдущих главах в ходе анализа психического аспекта рисунка.
* * *
Релятивист, разумеется, вправе рассматривать изображенное на рис. 9 поле 2 как подверженное деформации, что сделало бы поле 3 подверженным деформации в этих четырех измерениях, но не поколебало бы обоснованности аргументации сериалиста. Он не тревожился бы по поводу того, что поле 3 может быть подвержено деформации во всех пяти измерениях. Но, на мой взгляд, наиболее простой способ соединить сериализм с релятивистской точкой зрения — рассматривать поле 2 как признаваемый релятивистами реальный мир «точечных событий» — мир, который является одним и тем же для всех наблюдателей, и, следовательно, мир, где все психические наблюдатели движутся в общем временном измерении и имеют общее поле 1. В этом случае поле 3 простиралось бы вверх во Времени 2, покоясь на этом четырехмерном основании.
[212]
Есть некоторое опасение, что способность наблюдателя вмешиваться в ход событий недостаточна для того, чтобы он стал полновластным господином своей судьбы. Ведь существуют и другие наблюдатели, использующие аналогичную способность. Например, не исключено, что пока наш приятель лежит в постели и видит во сне свое счастливое будущее, какой-нибудь недруг, одержимый манией вмешательства, спалит его дом и тем самым превратит вероятность счастливого будущего в несбывшиеся грезы. (В виде неких целостностей они, разумеется, навсегда останутся в «прошлой» части Времени 2, но поле 1 никогда не натолкнется на них.) И если своим концом во Времени 1 наш наблюдатель может быть обязан вмешательству других наблюдателей, то своим началом он, несомненно, не обязан ничему иному. Прежде чем родиться, он мог быть лишь вероятностью в будущем человечества.
Это рассуждение подводит нас к вопросу о том, как связаны между собой поля различных наблюдателей.
Раз наблюдатели могут осуществлять вмешательство, значит, их соответствующие поля 1 в своем движении во Времени 1 должны располагаться очень близко друг от друга. Если бы поле наблюдателя А двигалось позади поля наблюдателя В и А должен был бы вмешаться в жизнь В в той точке субстрата В, которая находилась бы вровень с А, то тогда В обнаружил бы, что события в его поле 1 чудесным образом изменились. Он, например, мог бы умереть загадочной смертью, не подозревая о том, что чуть раньше его умертвил наблюдатель А. Но такого рода вещи с нами не происходят.
Эти поля 1 суть лишь точки пересечения неподвиж-
[213]
ных диагональных реагентов и полей 2. И поскольку поля 1 движутся приблизительно вровень друг с другом, неподвижные диагонали должны находиться приблизительно в одной плоскости. Кроме того, поля 2, перемещаясь во Времени 2, также должны соблюдать «равнение».
В настоящее время теория относительности вообще не рассматривает движения полей 1. Она имеет дело только с картами субстратов, по которым эти поля движутся*. Между тем если бы мы приложили сериализм к теории относительности, мы, вероятно, обнаружили бы, что фиксированные диагонали в двух временных измерениях нельзя рассматривать как находящиеся строго в одной и той же плоскости. Однако пределы отклонения одного поля или диагонали от другого поля или диагонали были бы существенно ограничены законом, который гласит: если бы вмешательство какого-либо наблюдателя в его поле 1 заключалось в посылке светового луча другому наблюдателю, этот луч должен был бы достичь поля 1 второго наблюдателя.
Возьмем для примера мать и дитя. Очевидно, что в момент рождения ребенка поля 1 обоих существ должны совпадать. Следовательно, в этой точке их поля 2 контактируют и находятся в одном и том же моменте Времени 2, а их соответствующие диагональные реагенты также контактируют и направлены вдоль одной и той же диагональной плоскости.
Теперь предположим, что нам необходимо изобразить графически на плоскости «родовое древо» всего человечества. Приняв одно измерение листа бумаги за пространство, а другое — за время, мы получили бы сеть, в которой многочисленные точки пересечения оз-
* Карты, на основании которых составляется общая для всех карта «точечных событий», разделенных «интервалами».
[214]
начали бы браки, а многочисленные ответвления — рождения. Вы обнаружили бы, что по этой сети можно проследить неразрывную связь между двумя любыми произвольно выбранными вами точками; подобным образом связаны между собой все человеческие семьи.
Если условиться, что мы вычертили только cerebra рассматриваемых индивидуумов, то наш график представлял бы собою первую временную протяженность — первую ступень нашего анализа времени, причем мы имели бы дело уже не с одним наблюдателем, а сразу со всеми человеческими наблюдателями. А на второй ступени график изображал бы их поля 2, соединенные между собой.
По линиям этой сети универсального поля 2 двигались бы индивидуальные поля 1. Они определялись бы исключительно точками, в которых линии в сети движущегося поля 2 пересекаются с соответствующими линиями в сходной, но неподвижной сети, протянувшейся диагонально во Времени 1 и Времени 2 и состоящей из соединенных между собой диагональных реагентов рассматриваемых индивидуумов.
Здесь мы можем несколько отклониться от нашей темы и обратиться к довольно интересному вопросу: является ли эта сеть поля 2 с широкими пространственными промежутками между ее линиями максимальным приближением к универсальному полю 2; или именно поле 2 заполняет все пространство, включая и эти промежутки?
Вернемся к рассмотрению сети универсального «родового древа», мозгового субстрата, часть которого, как предполагается, изображена в перспективе на рис. 14 с помощью соединенных между собой линий АВ, ВС и ВД.
[215]


Эти три линии протянуты вверх во Времени 2 в виде плоскостей АА'В'В, ВВ'С'Си BB'D'D. Плоскости пересечены соответствующими реагентами АЕ, ЕС' и ED', a также соответствующими полями 2 (для простоты показанными сверху фигуры) А'В', В'С' и B'D', образующими часть сети поля 2 A'B'C'D'. Очевидно, что линии сети поля 2 должны корректироваться в соответствии с формой субстрата. Например, если сеть поля 2 находится в основании фигуры и вмешательство изменяет направление линий субстрата таким образом, что В'С' и B'D' расходятся под углом меньшим, чем угол между ВС и BD, то соответствующие линии поля 2 должны скорректироваться и сблизиться. В противном случае в С' и D' не оказалось бы полей 1, когда сеть поля 2 достигла бы верха фигуры. Но такую корректировку линий поля 2 в соответствии с изменяющейся формой фигуры субстрата можно объяснить только при условии, что эти линии рассматриваются как линии пересечения субстрата с универсальным заполняющим пространство полем 2, представленным в виде efgh. Аналогично должен сущест-
[216]
вовать универсальный, заполняющий пространство диагональный реагент (во избежание усложненности не показанный на графике), пересечения которого с поддающимся изменению субстратом образуют поддающиеся изменению индивидуальные реагенты АЕ, ЕС'и ED'. A местом пересечения универсального поля 2 и универсального реагента должно быть универсальное поле 1 .fh*.
Теперь нам предстоит выяснить, почему каждая из этих подтвержденных отклонениями линий, где подверженный отклонениям субстрат пересечен универсальным полем 2, должна при всех отклонениях корректироваться конкретным сознательным наблюдателем 2, чье внимание в поле 1 не может выйти за пределы этой смещающейся линии. Не следует забывать, что этот индивидуальный наблюдатель не есть субстратное содержимое его поля. Согласно проведенному анализу, он есть независимое существо, которое сознательно наблюдает и примитивно интерпретирует и мыслит содержимое субстрата. Тогда почему же он прикован к этому содержимому во всех его пространственных изгибах и всех порожденных вмешательством изменениях его пространственного положения?
«Очевидно, потому, — можно было бы ответить, — что движущееся «поле представления» — это просто название той части доступного для наблюдения субстрата, которая совпадает или, так сказать, охватывается положением движущегося наблюдателя. Следовательно, всеобщее заполняющее пространство поле 2 есть область, охватываемая всеобщим наблюдателем, наблюдавшим все существующее, а индивидуальные сознательные наблюдатели суть просто те участки всеобщего
* В теории относительности этим полем, насколько я понимаю, было бы абсолютное поле, движущееся по признаваемому релятивистами абсолютному субстрату, состоящему из точечных событий.
[217]
наблюдателя, где его пересекают конкретные изменяющиеся участки субстрата, являющиеся сложными cere-bra живых организмов».
Надо признать, что вышеизложенное неоспоримо. Также заметим, что поскольку реагенты сознательны только там, где их пересекает этот универсальный наблюдатель, и поскольку линии пересечения между мозговыми субстратами и универсальным наблюдателем могут изменяться в пределах области, занимаемой этим наблюдателем, он должен быть способен наделять сознанием любой участок в указанной области.
Однако все сказанное не дает полного ответа на наш вопрос. Нам сообщено о том, что индивидуальные наблюдатели суть просто части всеобщего наблюдателя, но не разъяснено, почему они индивидуальны.
Очевидно, что части всеобщего наблюдателя, оказавшиеся пересеченными изменяющимися линиями во всеобщей сети мозгового субстрата, наделяются индивидуальностью... исключительно этими изменяющимися мозговыми линиями. Мы видели, что конечный наблюдатель в серии каждого индивидуального наблюдателя учится мыслить, беря за образец механическое мышление, свойственное мозгу. Поэтому всеобщий наблюдатель должен быть — в пределах своей заполняющей пространство области — неизвестным элементом, покоящимся на дне сознания и ума; и он дифференцируется в определенных далеко отстоящих друг от друга местах в виде сети индивидуальных мыслителей. Через минуту мы поймем, что это означает.
Но сначала следует указать, что уже упоминавшееся нами универсальное поле 1, конечно же, будет полем 1 универсального, заполняющего пространство наблюдателя; ибо он должен быть серийным, как и индивидуальные наблюдатели. Он, как и они — ибо они суть его части, — должен сводиться в серии к одному высшему
[218]
всеобщему «наблюдателю в бесконечности».
Отметим, что индивидуальный сознательный наблюдатель обретает существование тогда, когда универсальное поле 1 этого высшего наблюдателя достигает той точки в сети мозгового субстрата («точечного события»), где линия тела индивидуума (подтвержденная изменениям линия вероятностей) становится отличи мой от родительского ствола.
Поскольку поле 2 высшего всеобщего наблюдателя охватывает протяженность во Времени 1 всего генеалогически связанного мозгового субстрата, его внимание должно быть способно перемещаться по всей длине этой сети во Времени 1.
Далее, поскольку он одаривает сознанием и, следовательно, сознательным наблюдением все те свои части, которые образуют индивидуальных «наблюдателей в бесконечности», и поскольку эти индивидуумы обладают, как мы убедились, способностью вмешиваться, являющейся функцией сосредоточенного сознательного наблюдения (внимания), мы должны рассматривать высшего наблюдателя как конечного дарителя способности к вмешательству.
Подводя итог, можно сказать, что этот высший всеобщий наблюдатель есть источник всякого сознания, намерения и вмешательства, скрывающихся за чисто механическим мышлением; что он—в местах его пересечения с мозговыми субстратами — воплощен во всех земных (mundane) сознательных формах жизни, во всех временных измерениях; и что он — благодаря единству сформированной в нем таким образом сети и благодаря способности его внимания странствовать по всей ее протяженности — должен содержать в себе особую персонификацию всей генеалогически связанной сознательной жизни. Мы могли бы еще добавить, что эта пер-
[219]
сонификация должна быть способна мыслить более масштабно по сравнению с нами за счет необъятной временной и пространственной протяженности ее поля 2 и за счет необъятного опыта, имеющегося у нее как у «конечного мыслителя» в этом поле.
Мы, однако, отклонились от нашей главной задачи и вторглись в область, предназначенную, кажется, для теолога. Предоставим же ему ее изучение (он обнаружит великое множество dicta, вполне согласующихся с вышеизложенным), а сами вернемся к нашей теме.
* * *
Ученики Ницше подметят, что в свете сериализма теории циклического возвращения (будь то принятые или непринятые) приобретают совсем иной облик. Если допустить в качестве аргумента в споре, что происходит возвращение к какой-либо прошлой конфигурации материальной вселенной, то это уже не означает, что такое возвращение есть возобновление цикла, аналогичного нашему теперешнему циклу. Ведь вмешательство может помочь избежать неудовлетворяющих нас конфигураций. Одним из следствий такого вмешательства в чисто автоматическую последовательность событий было бы, разумеется, громадное увеличение длины цикла. Но самым важным результатом было бы укорачивание этого длиннейшего цикла настолько, насколько вмешивающиеся наблюдатели — всеобщий и частный — сочтут приемлемым.
Не следует также забывать, что сходные телесные конфигурации, отделенные друг от друга во Времени 1, принадлежали бы различным наблюдателям 2 — различным душам (это, наверное, обрадовало бы Марион Кроуфорд). Аесли бы во Вселенной 2 имелись бы повто-
[220]
рения четырехмерных конфигураций одного из упомянутых наблюдателей 2, то эти повторения — по аналогии — принадлежали бы различным наблюдателям 3 (частям первоначально рассмотренного нами индивидуального наблюдателя 3; точно так же разделенные во Времени 1 наблюдатели 2 суть части всеобщего наблюдателя сети поля 2). И так далее до бесконечности.
* * *
Эта книга является лишь общим введением в сериализм как теорию вселенной. Любая точка подобного рода должна иметь психологический, физический, теологический и телеологический аспекты. На каждый из них мы бросили беглый взгляд, достаточный, впрочем, для того, чтобы понять, насколько обширно и многообещающе поле для исследований, открытое благодаря новому аналитическому методу. Но надлежащее изучение этих сфер входит, как мы полагали, в компетенцию соответствующих специалистов.
Обыватель, однако, ожидает от нас чего-то вроде итогового заключения касательно того, какое значение имеет сериализм конкретно для него. Делать такие заключения не всегда целесообразно по причинам, вполне очевидным для людей рассудительных. Нов данном случае все моменты, непосредственно касающиеся обывателя, непременно должны были быть затронуты в книге, поскольку упустить хотя бы один из них означало бы прервать аргументацию в критической точке и оставить теорию подвешенной в воздухе. Поэтому мы не причиним никакого вреда, если подытожим то, о чем уже говорилось на предыдущих страницах в отдельных абзацах.
Итак, формулируя идеи в самом общем виде, я должен сказать:
[221]
1. Сериализм выявляет существование души разумной — индивидуальной луши, имеющей конкретное начало в Абсолютном Времени; луши, чье бессмертие, пребывая в других временных измерениях, ничуть не противоречит явному концу индивилуализма в признаваемом физиологами временным измерении луши, чье существование не отменяет сделанное физиологами открытие того, что активность мозга служит формальным основанием всякого рола земного опыта и всякого рола ассоциативного мышления.
2. Он показывает, что природа этой луши и ее умственного развития лает нам удовлетворительный ответ на вопрос о причине эволюции, рождения, боли, сна и смерти.
3. Он выявляет существование высшего всеобщего наблюдателя — источника всякого сознания, намерения и вмешательства, скрывающихся за чисто механическим мышлением, — который содержит в себе не столь обобщенного наблюдателя — персонификацию всей генеалогически связанной жизни — и который может мыслить по-человечески и имеет способность к предвидению, превосходящему наши индивидуальные способности. В этом высшем наблюдателе мы, индивидуальные наблюдатели, и древо, ветвями которого мы являемся, живем и обретаем наше существование. И нам не уготовано никакого грядущего «поглощения»;
мы уже поглощены, и нынешняя тенденция есть тенденция к дифференциации.
4. Он указывает на существование общего для всех поля 1, заполняющего все пространство (что вполне совместимо с теорией относительности). Во всяком случае это лает нам самое главное для осуществления чего-то вроде реальной телепатической связи друг с другом. Более того, взаимосвязь линий в древоподобной сети поля 2, кажется, предоставляет нам и другого рола возможность в этом плане.
[222]
Вадим
Руднев. Джон Уильям Данн
в культуре XX века .....5
Эксперимент со
временем
Часть I
Глава 1
......................................15
Глава II
.............................................17
Глава III
............................................23
Глава IV
.............................................29
Глава V
..............................................35
Часть II Глава VI
....................................43
Глава VII
............................................53
Часть III Глава VIII ................................
62
Глава IX
.............................................68
Глава
Х.............................................. 70
Глава XI
.............................................78
Глава XII
............................................87
Глава XIII
...........................................95
ГлаваХ1У
...................................... 101
Часть IV Глава XV
..................................103
Глава XVI
..........................................105
Глава
ХVП..........................................107
Глава XVIII
........................................118
Глава XIX
..........................................125
Часть V
Глава XX
...................................135
Глава XXI
..........................................138
Глава XXII..........................................168
Глава XXIII
........................................178
Глава XXIV
.........................................196
Глава XXV
..........................................207
Глава XXVI
.........................................213
[223]
Джон Уильям Данн ЭКСПЕРИМЕНТ СО ВРЕМЕНЕМ
Серия «XX век +»
Междисциплинарные исследования
В оформлении обложки использована картина художника Михаила Шварцмана "Полнолуние" (1972)
Редактор И. Ларина
Техническое редактирование и компьютерная верстка Д. Андреев
Корректор О. Булаева
Книга подготовлена при участии Э. Гареевой
ЛР № 064478 от 26.02.96 г.
Подписано в печать 15.05.2000. Формат 84х108/32. Гарнитура "Newton". Печать офсетная. Усл.-печ.л. 11,76 Тираж 2000. Заказ № 1851
Издательство «Аграф» 129344, Москва, Енисейская ул., 2 E-mail: agraf.ltd@g23.relcom.ru http://www.infoline.ru/g23/5711/
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ГИПП «Вятка». 610033, г. Киров, Московская ул., 122
Сканирование: Янко Слава
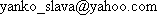 | | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656
| | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html
| Icq# 75088656